Главная / Искусствоведческие работы, Киноискусство; театр / Документальная и биографическая литература, Биографии, мемуары; очерки, интервью о жизни и творчестве / Документальная и биографическая литература, Серия "Жизнь замечательных людей Кыргызстана"
© Издательство "ЖЗЛК", 2005. Все права защищены
Произведение публикуется с письменного разрешения издательства
Не допускается тиражирование, воспроизведение текста или его фрагментов с целью коммерческого использования
Дата размещения на сайте: 13 декабря 2008 года
Толомуш Океев
(биографическая повесть)
Эта книга продолжает серию «Жизнь замечательных людей Кыргызстана» и посвящена жизни и деятельности Народного артиста Кыргызстана выдающегося кинорежиссера Толомуша Океева
Публикуется по книге: Толомуш Океев. – Б.: ЖЗЛК, 2005. – 374 с. – (Жизнь замечательных людей Кыргызстана)
УДК 7.0
ББК 85
Д 99
ISBN 9967-22-801-8
Д 4900000000-05
Книга выпущена по инициативе и при поддержке Общественного фонда им. Т. Океева. В издании использованы фотографии из архива фонда и семьи. Общая консультация – Океевой Азизы
Главный редактор ИВАНОВ Александр
Шеф-редактор РЯБОВ Олег
Редакционная коллегия:
АКМАТОВ Казат
БАЗАРОВ Геннадий
КОЙЧУЕВ Турар
ПЛОСКИХ Владимир
РУДОВ Михаил
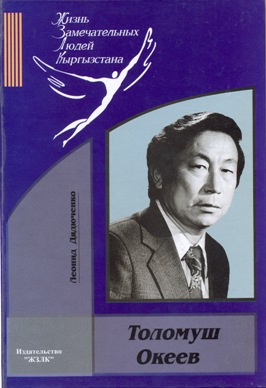
Я – торопливый тот орел, я – беркут быстрый тот,
Кто слишком рано, на заре, закончил перелет.
Осталась молодость навек в затерянном краю
Отвесных скал, зеленых гор, обветренных высот.
Алыкул Осмонов
20 ДЕКАБРЯ 2001 ГОДА
Ранним утром – телефонный звонок.
– Ты слышал? Океев умер.
– …Как – Толомуш?!.. Где? Что случилось?!..
– В Турции. Поехал попариться на какие-то термальные ключи. Ну сам понимаешь… Короче, завтра – гражданская панихида. Ты не мог бы дать в газете несколько строк?..
Я заспешил в редакцию газеты «Слово Кыргызстана», с которой многие годы сотрудничал, а когда-то и работал в штате. Но я никогда не писал что-либо о режиссере Окееве, даже умудрился не все его фильмы видеть. Так получилось. В разное время я делал пространные очерки о Болоте Шамшиеве, о Мелисе Убукееве, о Кадыржане Кыдыралиеве, о Косте Орозалиеве, о других кинематографистах «Киргизфильма», с творчеством которых и лично доводилось близко знакомиться, об Окееве – ничего.
Мы, конечно, были издали знакомы. Привет – привет. Пишущих о нем всегда хватало и без меня, у него был свой круг товарищей и друзей. И что теперь я могу изобразить на бумаге за какие-то два часа, оставшиеся до сдачи материала в набор?
Пока я думал о том, что мне предстояло сделать, в памяти назойливым рефреном звучала одна и та же строка из популярной некогда песни о Гагарине: «Знаете, каким он парнем был?». И, словно в ответ на этот нескончаемый вопрос, первый абзац будущей статьи и сложился, да так, что дежурный редактор сразу же сделал его вступительным врезом ко всей полосе, посвященной памяти Толомуша Океева: «Такая всегда исходила от него энергия, такая уверенность в своих силах и в значимости всего того, что он делает, такой озорной кураж «первого парня на деревне» был чуть ли не нормой его постоянного поведения, что весть о его внезапной кончине в дальнем зарубежье вызвала у самых разных людей прежде всего шок, изумление, поспешное стремление узнать хоть какие-то подтверждающие, что-то объясняющие подробности, а уж потом – скорбь и осознание величины и непоправимости утраты».
В секретариате газеты мне показали первый извлеченный из редакционного ротапринта зарубежный отклик:
«Кончина Толомуша Океева для нас – поистине национальная трагедия, ничем не восполнимая утрата для нашего киноискусства, одним из основоположников которого Океев был с первых дней становления кыргызского художественного кино. В этом смысле Океев для нас – историческая личность. Потенциал океевского таланта остался далеко не исчерпанным, ибо каждое новое слово Океева приносило в кино свое новое открытие. Теперь его нет рядом с нами. Мы лишились великого сына кыргызского народа, блестящего оратора и мыслителя. Скорблю и низко кланяюсь памяти Толомуша Океева. Чингиз Айтматов. Брюссель.
19 декабря 2001 года».
– Так что, от меня уже ничего не надо? – спросил я ответсекретаря.
– Делай свое дело, – наставительно сказал ответсекретарь, не поднимая головы от макета восьмой полосы, – делай, если успеешь…
Я работаю медленно, то и дело перекраивая то, что еще минуту назад меня вполне устраивало. К тому же случившееся было слишком неожиданно для меня, и потому я был не совсем, как принято говорить, в материале. Тем удивительней мне перечитывать теперь этот выданный на одном дыхании экспромт, в котором мне не хочется менять ни одной строчки…
НЕБО ТОЛОМУША ОКЕЕВА
«Когда-то в статье о Ларисе Шепитько, в команде которой на фильме «Зной» молодой звукооператор Океев начинал свою карьеру кинематографиста, Толомуш с улыбкой вспоминал о том, как больно задел его однажды нелицеприятный отзыв Ларисы о его фильме «Красное яблоко». А ведь этот фильм представлял советское киноискусство на Международном кинофестивале в Москве, был удостоен почетного диплома ХХII Международного кинофестиваля в Локарно, имел обширную и в целом комплиментарную прессу. Так, после просмотра фильма представитель японского департамента кино Кавакита Нагамаси сказал: «Японцев трудно удивить виртуозной кинематографической техникой. И тем не менее я просто восхищен изобразительным мастерством, которым отмечен новый фильм советских кинематографистов. Мне говорили, что студия в городе Фрунзе очень молода, ей нет еще и 25 лет. Но какую же во всех отношениях зрелую работу представила она».
И вдруг Шепитько, мнением которой Толомуш очень дорожил, при личной встрече с присущим ей максимализмом неожиданно сказала, хотя и в шутливой манере: «Наконец-то ты сделал плохую картину!». Очевидно, тут был намек на такие его предшествующие фильмы, как «Небо нашего детства», «Поклонись огню», «Лютый», которым «Красное яблоко», конечно же, уступало. Толомуш даже растерялся немного от столь странного комплимента, но и тут остался верен себе. «Не могу же я все время мчаться на предельной скорости по рытвинам и ухабам», – засмеялся он, сняв этой встречной шуткой возникшее было напряжение.
Но шутка оказалась пророческой. Все время мчать на предельной скорости по рытвинам и ухабам перестроечно-переходного периода сердце выдержать не смогло.
Натурную площадку для съемок ключевого эпизода фильма «Потомок белого барса» Толомуш когда-то выбрал в высокогорье Ала-Арчи, на Аксайском леднике, в окружении известнейших в альпинистском мире вершин, славящихся суровой неприступностью и красотой своих скалистых отрогов. Наверное, современные приемы монтажа и комбинированных съемок давали ему возможность развернуться в более доступной местности, комфортной как для организации съемок, так и для самочувствия актерской и операторской групп. Но он остановил свой выбор на грозной Короне, как всегда, выбирая для себя и своих героев форс-мажорную обстановку работы и жизни на пределе возможного, требующую от человека максимальной отдачи всех физических и нравственных сил.
Собственно, это было его творческим кредо, о котором он не только говорил в своих публичных выступлениях, но и смог убедительно воплотить в своих лучших фильмах. Видимо, какое-то несоответствие этому кредо в «Красном яблоке» и почувствовала чутко улавливавшая малейшую фальшь режиссер Лариса Шепитько.
Характерная метаморфоза произошла когда-то с названием кинокартины «Небо нашего детства». В рабочем варианте оно звучало как «Пастбище Бакая». Но, при всем глубоком расположении к имени одного из любимейших персонажей великого сказания, Толомуш все-таки отдал предпочтение образу неизмеримо более высокой категории народной духовности и почитания – извечному небу. Одна из самых сильных сторон в творчестве Океева – эпическое восприятие родной природы, народных художнических и этических традиций, способность органически слить в единое целое национальную фактуру в ее высоких проявлениях с творчески опосредствованной эстетикой общечеловеческой культуры и лучших образцов мирового киноискусства. Этот круто замешанный сплав реального и поэтического, исторически достоверного и воображаемого с редкой по живописности силой проявился в красочной кинопритче «Любовь Мани», в чем-то предвосхитившей судьбу и самого Океева. Жизнь мифического художника и проповедника предстает беспредельным путешествием сквозь время и пространство, между востоком и западом, севером и югом, с преодолением все новых границ и сфер влияния извечных начал света и тьмы, добра и зла. Как и во всем творчестве Океева, здесь активно соседствуют и слепая жестокость, и тончайшее движение человеческой души в ее стремлении к надежде, к любви и нежности, к состраданию и вере. И в этом – весь Океев.
И если верна расхожая фраза о том, что режиссер фильма или спектакля живет на своем веку не только предназначенной ему судьбой личной жизнью, но в каждой новой работе и жизнью своих геро¬ев, то такими надвременными произведениями, как «Лютый», «Поклонись огню», «Потомок белого барса», долгая жизнь в памяти человеческой уготована и имени их создателя – Толомушу Окееву»…
Статья была напечатана, но сомнения, которые одолевали меня по дороге в редакцию, уже не отпускали. Не отпускают и теперь, когда мне предложили написать об этом неординарном человеке книгу серии «Жизнь замечательных людей Кыргызстана».
Что же все-таки представляет собой творчество Толомуша Океева, что это была за личность и что все-таки с ним случилось? Ведь если уж говорить откровенно, то Океев, как человек, особых симпатий у меня не вызывал, хотя бы громогласным апломбом своих суждений и самооценок («Талант – товар штучный и относиться к нему нужно соответственно»), подчас коробящей беспардонностью своего обращения с другими людьми... Словом, лицом к лицу лица не увидать.
С другой стороны, более значимой фигуры, как творческой личности, так и общественного деятеля, в разноликой среде киргизских кинематографистов назвать трудно. И дело не только в том, что в своем большинстве фильмы, снятые Толомушем Океевым, стали событиями в современном кинематографе, а высокий профессиональный рейтинг их создателя подтверждается красноречивым перечнем таких присвоенных ему званий, как лауреат Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Специальный приз за дебют» (1968 г.), лауреат премии Ленинского комсомола Киргизии (1967 г.), лауреат государственной премии Киргизской ССР (1972 г.), лауреат Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Первые премии за художественные фильмы» (1974 г.), Народный артист Киргизской ССР (1975 г.), лауреат Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Призы за режиссуру» (1978 г.), Заслуженный деятель культуры Польши (1979 г.), лауреат Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Премии кинофестиваля» (1981 г.), лауреат Всесоюзного кинофестиваля в Минске в номинации «Главные премии» (1985 г.), лауреат Берлинского кинофестиваля в номинации «Приз за художественный вклад» (1985 г.), Народный артист СССР (1985 г.), Заслуженный деятель искусств Казахстана (1997 г.). В соответствии со столь разнообразно представленным лауреатством разворачивалась и общественная деятельность Толомуша в кинематографе, будь то в ранге члена худсовета или председателя бюро творческой секции киностудии «Киргизфильм», члена коллегии Госкино Киргизской ССР, члена редколлегии журнала «Советский экран», правления СК СССР и его комиссии по международным связям, а также первого секретаря Союза кинематографистов Кыргызстана, секретаря Союза кинематографистов СССР, вплоть до заместителя председателя Конфедерации кинематографистов СНГ в 2001 году.
Я, к сожалению, не помню сколько-нибудь значащих обстоятельств, при которых я впервые увидел Толомуша Океева. В далеких шестидесятых, когда я начал впервые появляться на «Киргизфильме» в качестве автора дикторских текстов к киножурналам «Советская Киргизия» и сценариев документальных фильмов, мое внимание было безраздельно приковано к документалистам, тем более что при случайных встречах в кругу общих знакомых я улавливал со стороны Океева направленные в мой адрес флюиды плохо скрываемой неприязни, объяснить причины которой я тогда не мог. И только теперь, покопавшись в подшивках газет сорокалетней давности, я понимаю, что, как журналист, я был для него прежде всего штатным работником той самой газеты, которая попортила ему немало крови... И я вновь и вновь подумывал о том, что не лучше ли мне отказаться от предложения издательства «ЖЗЛК» написать книгу о Толомуше Окееве.
А когда я впервые за многие годы и, собственно, в другой стране пересмотрел «Небо нашего детства», «Мураса», «Уркую», впервые посмотрел «Лютого», то все мои сомнения отпали. И тогда включился компьютер памяти, и по мере ее раскрутки все громче зазвучали отголоски каких-то полузабытых частностей, тот упрямый внутренний голос, до которого не было дела в суматохе траурного дня.
Как это так: «привет-привет», если я был редактором на его документальной картине «Скульптор Ольга Мануйлова»?!
Понятно, что на этом фильме я, как редактор, особенно не перетрудился, и если этот факт запомнился мне, то разве что курьезным случаем в моей начинавшейся тогда редакторской практике.
Словом, встречает меня как-то в студийном дворе Толомуш Океев и с присущей ему напористостью устраивает мне форменный разнос:
– Ты у нас редактором числишься на фильме? Почему с автором не работаешь? Ради галочки приняли сценарий и успокоились? Где ваш автор, который обещал дорабатывать драматургию в процессе съемок? Я что-то давно его не вижу. Я, что ли, буду за него работать?
– Толомуш, – я даже растерялся. – Ты это всерьез? Или это ваши с Маром шуточки? Вы же сами торопили нас с запуском, давили на нас своим авторитетом. Сами разбирайтесь.
К тому временя на счету Толомуша были все его основные художественные и документальные картины, а сценарий только что законченного художественного фильма «Золотая осень» написал известный в Киргизии прозаик и драматург Map Байджиев. Пьесы Байджиева ставились в самых разных театрах страны и даже в Москве, далеко не новичок он был и в написании сценариев документальных фильмов, тем более что в свое время он сам работал редактором то на студии «Киргизфильм», то в Министерстве культуры... Словом, у редколлегии скромного объединения «Хроника», не избалованного наличием высокопрофессионального авторского актива, были все основания надеяться, что уж такой испытанный и тем более дружеский тандем достойно обогатит условную схему формального сценария необходимым образным и смысловым наполнением.
А фильм, посвященный такому персонифицированному образу старого русского творческого интеллигента, какою была во Фрунзе многие годы Ольга Максимилиановна Мануйлова, отвечал еще и пожизненному влечению Толомуша к необъятному миру русской художнической культуры, его все более усиливающемуся с возрастом практическому интересу к проблеме взаимообогащения культур разных народов Евразии. Собственно, именно поэтому он и взялся за эту картину, и относился к ней не как к проходной единице производственного плана или средству заполнить паузу между более важными для него работами...
Через несколько минут после встречи с Толомушем в том же студийном дворе меня останавливает Map Байджиев.
– Слушай, старик, ты, как редактор, воздействуй на пана режиссеpa! Вы же на сценарной коллегии приняли, утвердили мой сценарий, а Толомуш с ним не считается, занимается отсебятиной. Еще и меня упрекает: дескать, я не работаю. А я свое дело сделал. Вы защищайте автора. Вы же должны быть на стороне авторского права, я же не с улицы к вам пришел!
Мне оставалось только рассмеяться. Все знали о дружеских пикировках этих двух балагуров, каждый из которых не упускал случая поупражняться в жанре любимого в киргизской среде айтыша – состязания острословов. Однако почему-то запомнившийся мне этот спор двух создателей одного кинопроизведения с годами все меньше стал казаться мне не заслуживающим особого внимания и чуть ли не розыгрышем. Наоборот, со временем он все отчетливей представляется далеко не частным случаем широко распространенного противостояния режиссера и драматурга в их отношении к принятому в производство сценарию.
А поскольку кинокартина не есть набор «живых» картинок, иллюстрирующих литературный текст, но есть самодостаточное, как принято ныне говорить, произведение искусства, то понимание такой позиции Толомуш убедительно показал уже в первой своей игровой картине «Пастбище Бакая».
И так, с теми или иными вариациями, у Толомуша было всегда, значится ли он в титрах фильма как соавтор сценария или нет. И если в современных публикациях, посвященных кинематографу, а также в титрах картин последнего времени можно увидеть такие странные термины, как «авторское кино», «главный автор сценария», то они вполне применимы к лучшим картинам Толомуша, в которых он выступает именно как главный автор.
«А Я НЕЗДЕШНИЙ…»
Однако пора перейти от общих деклараций к рутине их перевода в реальность. И я начал с предшественников. Благо, для этого стоило лишь протянуть руку к книжной полке.
В 1998 году издательство «Кыргызстан» выпустило в свет книгу прозы Дооронбека Садырбаева «Светлая боль моя». В этой книге нашла место и небольшая повесть «Солнечные тени детства», в основу которой легли воспоминания автора о его встречах с Толомушем Океевым. Видимо, не случайно Дооронбек явно предпочитает не называть своего старшего собрата по киноискусству по имени. Он настойчиво обходится словом «учитель», отчего документальное повествование приобретает несвойственный ему привкус велеречивой патетики. Тем не менее эти страницы сохранили живые, своеобразные черты характера Толомуша, которые специально не придумать.
В 1968 году на третий Всесоюзный кинофестиваль в Ленинграде делегация «Киргизфильма» привезла художественную картину Толомуша Океева «Небо нашего детства». Фильм не был «котом в мешке». Годом раньше снятый в 1966 году фильм был впервые показан в Душанбе на VI смотре-соревновании кинематографистов Средней Азии и Казахстана. В Душанбе фильм получил диплом I степени и главный приз – «Большой горный хрусталь». О фильме много говорили, писали, так что для киргизских студентов Ленинградского института инженеров кинематографии посмотреть картину своего земляка, тем более закончившего когда-то этот институт, было делом первейшей необходимости. Но билетов в кассах фестиваля, конечно, не было, и студент четвертого курса Дооронбек Садырбаев, человек, как и положено будущему кинорежиссеру, решительный и без комплексов, отправился в гостиницу «Ленинградская», где остановилась киргизская делегация. С Океевым студент знаком не был, но знал его по единственной тогда у Толомуша работе – документальной короткометражке «Это лошади», которая, несмотря на свою сугубо коневодческую тематику, потрясла Дооронбека, как он потом признавался, до слез. Теперь же интерес к новой ленте Океева, несомненно, подогревался тем обстоятельством, что «Небо» было дебютом Океева в игровом полнометражном кинематографе – уж тут-то мастер должен был развернуться. А мастером для Дооронбека Океев стал с первой же одночастевки. Как, впрочем, и учителем.
В «Ленинградской» повезло. Океев был в номере. Дооронбек постучался, вошел, представился:
– Толомуш-байке, я из Киргизии...
– Это заметно, – хохотнул Толомуш.
И в столь спонтанной реакции на мимолетное, в предельной лаконичности высказанного был весь Толомуш.
– Ты с девушкой? – спросил Толомуш, пригласив присесть и выслушав просьбу о билетах.
– Нет, я с курсом. Нас двадцать пять, вместе с преподавателями. Деньги мы собрали, вот...
– Ну, парень, ты даешь... А ведь тут не Фрунзе... – засмеялся Толомуш, но все же взялся за телефон...
Через несколько лет они встретились уже во Фрунзе. После окончания института Дооронбек снял несколько короткометражек и готовился к съемкам фильма по одному из ранних рассказов Айтматова «Свидание с сыном». Как-то ему передали, что его хочет видеть Океев. Толомуш приболел, лежал в больнице. Дооронбек тут же помчался на встречу с мастером. Догадываясь, о чем будет разговор, прихватил с собой сценарий. Сценарий назывался «Арман».
– Слышал, хочешь снять фильм по рассказу Айтматова?
– Да вот, собираюсь.
– Долго собираешься.
– Айтматов все-таки.
– Имени испугался? Тогда уходи в сторону. А если считаешь себя художником – работай. Сценарий принес? Причем тут «Арман»?
– Ну, это как бы светлая грусть о несбывшемся, о заветном. Никак на русский не могу перевести...
– А зачем переводить? Если фильм получится – люди поймут и без перевода. Не возражаешь, если я карандашиком кое-где пройдусь? Оставь на пару дней...
– Благодарен буду...
– Ну, это еще неизвестно...
Через пару дней Дооронбек, как и было обещано, получил свой сценарий обратно. Все страницы были перечеркнуты крест-накрест. Не более многословен был и сам Толомуш.
– Название оставь. Все остальное выбрось.
– Как?! – опешил Дооронбек.
– Молча, – ответил Толомуш.
И в этом «молча» был опять-таки весь Океев. Он не любил нудных разбирательств. Он был уверен, что человеку, который всерьез занимается своим делом, вполне достаточно поставить на полях его рукописи точку или вопросительный знак. А тот, кто эту точку или вопросительный знак прочесть не может, – тот занимается не своим делом, и разговаривать с ним не о чем.
С Дооронбеком он все-таки поговорил, буквально вернув его с порога. Пояснил, что в перечеркнутом им «как бы сценарии», сценария, честно говоря, он при всем желании не увидел, а увидел лишь труд переписчика, с пиететом повторившего текст писателя своей рукой. А кроме этого – ничего. Ни режиссерского, ни тем более творческого, ты уж не обижайся…
А как не обижаться?.. Обиделся. Но при «домашнем анализе партии» – смирился. И еще несколько раз приходил к Толомушу, показывал новые свои разработки, пока наконец карандашу мастера, к обоюдному удовольствию, нечего стало перечеркивать. Но и тогда присутствие Толомуша стало для Дооронбека более чем необходимым, и особенно на съемочной площадке, где так важны не только художническое видение, интуиция, способность уловить тончайшие нюансы в поведении актера, актерского дуэта, но и навыки управления массовкой, всей группой, опыт, авторитет, в конце концов, командирский голос, абсолютная уверенность режиссера в себе, в непременном исполнении всего того, чего он добивается.
И Дооронбеку удалось однажды уговорить Океева прийти на съемки одного из сложнейших постановочных эпизодов «Армана» – проводов солдат на Фрунзенском вокзале, закамуфлированном под сорок первый год. Жара – за тридцать. На площади – обливающаяся потом десятитысячная разношерстная массовка. Где-то неизбежные накладки, нестыковки. Время идет. Все напряженно ждут режиссерской команды, на которую он никак не может решиться. Оказывается, это страшно. Он обратился к Окееву, буквально взмолился:
– Байке, может, вы?
И тут «байке» неожиданно хохотнул:
– А я не здешний, – и отвернулся...
Дооронбек вспомнил, как однажды воспользовался этой отговоркой, когда ему случайно довелось присутствовать при очередном споре двух друзей-оппонентов – Толомуша и кинодраматурга Мара Байджиева по поводу какого-то эпизода снимаемого фильма. Дооронбеку больше нравился вариант Толомуша, но не хотелось раздражать и острого на язык пересмешника Мара.
– А я нездешний, – спасительно пришла на память фраза из старого анекдота, в котором два полуночных гуляки в азарте спора допытываются у перепуганного прохожего, что там над горами светит – солнце или луна?
Тогда все рассмеялись, а Толомуш удачный ответ запомнил, хотя сам нигде и никогда нездешним не был.
Но на привокзальной площади эхо давнего анекдота прозвучало как нельзя более кстати, и Дооронбек словно пришел в себя и закричал: «Приготовились! Мотор!». Привычно затарахтел «Конвас», и все пришло в действие, все стронулось с мертвой точки. А дальше бояться было уже некогда, и если Дооронбек и оглядывался по ходу дела на Толомуша, то ничего по его замкнутому, отрешенному лицу прочесть не мог. Но учитель просидел рядом до конца съемок, а когда прозвучало долгожданное «Снято!», Толомуш достал откуда-то из-под брезента канистру, налил в литровую банку холодного кумыса и просто сказал:
– На, выпей! – и уехал.
Но, когда Дооронбек решился повторить свою просьбу и пригласил Толомуша на следующую съемку, Толомуш быстро поставил своего подшефного на место:
– Тебе больше некого послать за кумысом?
И в этом тоже был весь Толомуш: забываться с ним он никому не позволял. И все же при всей внешней грубоватости он умел щадить самолюбие другого человека, даже если приходилось так или иначе вмешиваться в дела, которые напрямую его вроде бы не касались.
Так в самый разгар съемок художественного фильма «Деревенская мозаика» у режиссера-постановщика Садырбаева сложилась конфликтная ситуация с администрацией студии «Киргизфильм». Сгоряча Дооронбек написал заявление об уходе, работа встала. Для маленькой киностудии с годовым производством в две-три полнометражные картины закрытие одной из них означало почти катастрофу. Очевидно, об этом дали знать Окееву, потому что уже вскоре после случившегося он появился на съемочной площадке. Настолько весомо было слово этого человека, не занимавшего ни в киностудии, ни в Госкино никаких административных должностей, что в спорные моменты к нему, как в третейский суд, обращались и рядовые киношники, и столоначальники. И Дооронбек напрягся в ожидании неприятного разговора, тем более в присутствии всей группы. А Толомуш поначалу к нему даже не подошел. Сначала обратился к директору фильма Насыру Зарипову:
– Как, Насыр? Будете снимать сегодня?
Насыр только обескураженно развел руками.
– Тогда тебе режиссер не нужен? Я его заберу.
Ничего не объясняя, пригласил Дооронбека в машину, затем почему-то пригласил душу любой компании – актера Орозбека Кутманалиева, и они куда-то поехали. Как вскоре выяснилось – в пригородное село Алты-Барак, которое среди любителей кумыса славилось своим фирменным напитком. Приехали, попили кумыса вдоволь, повспоминали старые анекдоты. С тем и вернулись в город. И хотя Дооронбек напряженно ждал, когда Толомуш заговорит о главном, о главном не было ни слова. И только вылезая из машины, Толомуш прошептал Дооронбеку в приоткрытое ветровое окно:
– Будешь завтра снимать – приглуши Орозбека. Он ведь яркий актер, он тебе театр сделает, а не «кыйно»!
И в этом был опять-таки весь Толомуш, его очередной урок профессионализма и житейской мудрости.
Кыйно – это из другой байки о Толомуше.
– Пошли, кыйно смотреть, – предложили однажды соседские пацаны. «Кыйно» показывали в райцентре, в Кольцовке, а Толомуш жил тогда в небольшом подгорном аиле Торт-Куль, у дедушки Бакая, а точнее, у дяди – брата отца. До Кольцовки было километров десять, а поскольку кинотеатром служила пришкольная спортплощадка, куда приезжала кинопередвижка, сеанс начинался с наступлением темноты и завершался заполночь. И крутили по частям. И пленка рвалась. А то и очередная бобина оказывалась неперемотанной, тогда-то и начиналось настоящее «кыйно», потому что нередко оно шло задом наперед или вверх ногами. Возвращался Толомуш в одиночестве. Пацаны не осмелились смотреть картину до конца, потому что, когда на столбе зажигался фонарь, местные подростки могли разглядеть пришлых, а этого хотелось избежать. И потому торткульские смывались по-английски, еще до заключительных ракордов, но Толомуш смотрел до конца. И возвращение в темноте, ночным проселком, мимо что-то шепчущих кустов чия и зловещих руин древних гумбезов придорожных к
ладбищ, казалось продолжением «кыйно», не менее будоражущим все чувства. Тем более что у околицы, у брода через речку, что-то возбужденно обсуждала группа парней. Сворачивать было некуда, и Толомуш, собравшись, пошел прямо на них. Парни удивленно расступились, и Толомуш прошел сквозь их круг, как нож сквозь масло – как написал бы об этом иной мастер художественного слова. И только за поворотом, когда парни исчезли из виду, Толомуш перевел дыхание, высоко подскочил с воинственно поднятой над головой рукой, издав как боевой клич нечто вроде «кыйно – это во!»
В детстве Толомуш подолгу гостил у двоюродного брата отца – Бакая. Отец Толомуша, Окей, не случайно любил оставлять сына под присмотром этого доброго, трудолюбивого человека, рядом с которым Толомуш с малолетства постигал неписанную нигде науку ухода за животными, все тонкости кочевого уклада жизни на высокогорных пастбищах. Внешность этого могучего, статного человека гармонично сочеталась с благородством и щедростью его натуры, и Толомуш пронес привязанность к Бакаю сквозь всю жизнь.
Что касается отца Толомуша – Окея, то он был известен среди сельчан как искусный сказитель санжыры – своеобразного жанра устного народного творчества, предста-вляющего собой поэтически переданную генеалогию того или иного рода. Не менее заметной в селе личностью была мать Толомуша. Она одевалась по-городскому, работала в магазине, а звание «завмаг» в сельском социуме тех лет значило не меньше, чем даже «башкарма», то есть председатель или бригадир. Однако в духовном плане имя Бакай было неизмеримо выше всего этого, поскольку так звали наставника самого Манаса. И Толомуш откровенно гордился тем, что его дядюшка не только носил это высокое имя, но и соответствовал ему по своим человеческим качествам, что признавалось всеми соседями. Неудивительно, что одна из ключевых фигур фильма «Небо нашего детства» носит имя Бакая, а первоначально фильм так и назывался: «Пастбище Бакая».
Происхождение собственного имени тоже занимало Толомуша. По семейным преданиям, это имя дал ему Бакай, и в приближенном переводе на русский оно сопоставимо с понятием «восполнение», «возвращение долга». Прямо скажем, не очень поэтическое имя, но ведь не Октябрь, не Аскер, не Тракторбек, а именно такие политизированные имена были тогда в ходу, как и всевозможные аббревиатуры из наиболее громко звучавших тогда имен, из чего получались всевозможные Владлены и Марклены. Но тут было нечто философское, свое, что мог придумать только мудрый Бакай, нацеливая маленького человечка на исполнение долга перед своими близкими, перед своей землей. И это имя действительно стало Именем.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЖУМАШ ОКЕЕВОЙ
«Для меня писать о Толомуше – это попытка объять необъятное. Не обладая ни малейшим писательским даром, изложить на бумаге то, что беспорядочно роится в памяти, дело совсем не легкое.
К тому же, как теперь выясняется, в воспоминаниях сохранилось на удивление мало событий, поскольку я не вела дневника. Когда-то я пыталась это делать, сначала записывала ежедневно, отмечая даже часы, потом, когда не хватало времени, стала откладывать, объединяя события двух, а то и четырех дней, но когда перечитывала написанное, то убеждалась в том, что получилось скучно, неинтересно, и я откладывала дневник.
Обычно к записям влекли счастливые дни, хорошее настроение. Но как только в нашей жизни возникали ссоры, обиды друг на друга – записи иссякали. Не хотелось заносить в дневник теневую сторону жизни. А заодно уничтожались и страницы светлых, радостных дней… А жаль. Как я была бы счастлива сейчас перечитать то, что записала в далекие, невозвратные моменты нашей счастливой жизни...
Но, главным образом, эти неудачные попытки исходили от моего неумения писать. Однако и сам Толомуш, легко владея пером, не отличался терпением и готовностью вести дневник своей жизни. А у него был очень богатый язык, своеобразные мысли, неожиданные оценки событий. Читать его мгновенно возникавшие подчас записи и письма было всегда чрезвычайно интересно, и как жаль, что по нашему легкомыслию все это почти не сохранилось. Когда Толомуш писал свои сценарные заявки или режиссерский сценарий, он почти не пользовался черновиком, писал набело, изредка зачеркивая и заменяя отдельные слова. Благодаря своему умению писать он и смог поступить на режиссерские курсы, где первым этапом конкурса был письменный рассказ.
Однажды мы откуда-то возвращались домой и остановились у газетного киоска. Внимание Толомуша привлекли красивые китайские ручки с золотым пером. Толомуш обычно спокойно относился к красивым вещам, а тут вдруг сказал:
– Купи мне эту ручку.
Сувенир стоил достаточно дорого, и таких денег у нас с собой не было.
– Зачем тебе золотое перо? – сказала я. – Ты и так прекрасно пишешь, стоит тебе сесть за письменный стол…
Толомуш только усмехнулся, возразить ему было нечего. Сколько замыслов осталось неосуществленными только из-за того, что он не мог заставить себя сесть за стол, сколько идей он унес с собой... В последние годы он подумывал написать что-нибудь более объемное, что уже начал делать в перерывах между телефонными звонками, официальными визитами, приемами различных делегаций и прочими посольскими делами, но до реального завершения задуманного дело не дошло.
Однажды он спустился из своего рабочего кабинета со второго этажа и предложил мне прогуляться. Мы шли по безлюдной аллее, я говорила о чем-то незначащем, но он был молчалив и задумчив. Потом посмотрел на меня и грустно сказал: «Знаешь, я сейчас уничтожил все, что написал в эти дни. Моя родословная, детство, родственники – все мои корни так для меня дороги, что любой неудачный штрих в рассказе об этом больно ранит сердце... Начинаешь вновь писать об этом, пытаясь выстроить все по хронологии и в реальном времени, и… безнадежно вязнешь в обилии и разнообразии материала».
Я старалась его успокоить: «Необязательно все излагать по хронологии. Даже если будешь делать просто расширенные текстовки к фотографиям встреч с разными людьми при разных обстоятельствах, которых у тебя великое множество, и то получится увлекательное повествование». Я привела в пример книгу воспоминаний Вересаева. Ведь она тоже состоит, в основном, из небольших эпизодов, разрозненных наблюдений, сделанных во время всевозможных событий, и описаний отдельных человеческих характеров. А ведь читается как цельная, захватывающая вещь. И разве все пережитое нами, не менее значительно для наших потомков?
Толомуш согласился со мною, но дальше этого согласия дело, к сожалению, не пошло. А из того, что он сделал, сохранились только первые четыре страницы, пересказы которых я теперь встречаю в самых разных статьях и книгах о Толомуше. Если б я знала, что этим первым страницам суждено было стать последними, я бы собрала все выброшенные им клочки и сохранила их, но я так была уверена, что Толомуш еще многое напишет, и гораздо лучше и интереснее… Я совсем не думала, что беда так близко. Я потом узнала, что моя невнимательность широко распространена в общении близких людей и в медицинской литературе имеет специальное название – «усыпленная бдительность». Теперь я вспоминаю, что Толомуш порой жаловался на тупую боль в области сердца, но от Толомуша веяло таким здоровьем, такой энергией, что вопрос об обращении к врачам выглядел несерьезным, и он тотчас обрывал разговоры об этом. Немного устал, вот и все. Стоит немного отдохнуть и все наладится, не в первый раз…
Теперь самобичеванием его не вернешь, но в памяти вновь и вновь возникает семейное предание о том, как Толомуш чуть не умер от воспаления легких, когда ему не было и годика. Мать, Сайра-апа, повезла больного сына в Рыбачье. Плыли на пароходе, который раз в несколько дней заходил в Тонский залив на своем обычном пути из Каракола в Рыбачье. Тогда почти не было машин, а ехать на телеге было намного дольше и мучительней. В пути ребенок совсем разболелся, он уже не брал грудь, не открывал глаза и тяжело дышал. Сайра-aпa плакала, а поехавший с ней ее отец, Айтике, ничем не мог помочь. В Рыбачьем температура у малыша еще поднялась, и Сайра-aпa, чтобы сбить жар, завернула сына в кусок мокрой кошмы, который случайно увидела в арыке. Пользуясь растерянностью матери, к ней стала приставать какая-то цыганка, уговаривая отдать ей ребенка, который все равно умрет, а вот она, гадалка, его вылечит, и он будет у нее счастлив… Вмешался дед Айтике, отогнал ворожейку, а потом взял у обессилевшей Сайры ребенка, завернутого в мокрую кошму, положил его за пазуху и укрыл полой тулупа. Неподалеку находилось кладбище, дед пошел с внуком на погост, молясь Аллаху и прося милосердия у душ умерших. Спустя некоторое время ребенок зашевелился. Айтике потрогал его рукой – малыш был весь в горячем поту, но деду показалось, что температура начала спадать. И дед снова ходил, плакал и молился, молился и плакал…
И Аллах смилостивился, духи предков поддержали ребенка, и Толомуш прожил еще шестьдесят пять лет... Он и родился при необычных обстоятельствах прохладным осенним утром 11 сентября 1935 года на берегу речки Тон, подобно тому, как спустя тридцать лет точно так же на берегу речки родится жеребенок – герой его фильма-первенца «Это лошади». В маленьком высокогорном аиле Туура-Су Тонского района будущая мать, Сайра-апа, пошла на речку за водой. Тон – речка небольшая, зимой, поздней осенью и ранней весной через нее можно легко переправиться не то что на лошади, но и перепрыгивая с камня на камень в местах мелководья. Но летом река становится полноводной, бурной, постоянно сносящей мосты, а то и превращающейся в грозный сель. Около села река огибает широкую низину, а само село расположено метрах в двадцати выше этой низины, используемой сельчанами как ближнее пастбище. И вот у Сайры-апы на этом подъеме от речки, – то ли от тяжести ведер, то ли просто подошло время, – начались схватки. Она подозвала девочек, игравших неподалеку, и послала их за свекровью, бабушкой Толомуша – Укей. Сайра-aпa родила сына, опираясь на камни-валуны, а подоспевшая старая Укей перерезала пуповину. Толомуш был вторым ребенком в семье, сестра Шарипа была старше его на два года. Имя ему дали в память о рано ушедшем из жизни дяде Тутае, младшем брате отца. Рассказывали, что Тутай был талантливым и обаятельным парнем, он писал стихи, и беседы с ним всегда привлекали односельчан. Он рано умер от тяжелой болезни, не успев обзавестись семьей.
Тонский район, как и мой родной Кочкорский, обделен природой: зимой не бывает снега, летом – дождей, нет лесов, растительность скудная. И я хорошо помню, как ранней весной мы, детвора, радовались появлению первых побегов бледно-зеленой травы, которую могли щипать коровы и овцы, нагуливая молоко для своих телят и ягнят. Мы, дети, должны были ждать, когда эта молодь, окрепнув, сама начнет есть траву, тогда молоко могло достаться и нам.
Сайра-aпa рассказывала, что у них было несколько коз и овец, забота о которых всегда ложилась на плечи Толомуша, хотя ему было всего восемь-девять лет. Однажды он ушел со стадом, не позавтракав, а ничего съестного взять с собой не было. Беспокоясь, что сын до вечера останется голодным, Сайра-aпa, взяв еды, на чьей-то лошади поехала его искать. Подъехав к выпасу, она увидела, что овцы и козы разбрелись кто куда, а Толомуша нигде не было видно. Сайра-апа испугалась. Время было голодное, в горах промышляли не только скотокрады, но и дезертиры. И когда она нашла его спящим прямо на земле, то и обрадовалась, и расстроилась до слез, так стало жалко сынишку. А он, разбуженный, вместо того чтобы обрадоваться появлению матери, вскочил и испуганно спросил, не зашли ли овцы в чей-то огород.
– В те голодные годы, – вспоминал Толомуш, – человеком овладевала неодолимая слабость: чуть пригреет солнце – хотелось спать. А эти проклятые козы никогда не паслись спокойно на одном месте, их всегда тянуло на зелень, на чьи-то посевы. И приходилось целыми днями бегать за ними. И, конечно, устав, я садился на землю и засыпал. Но я и во сне думал о козах…
Эти воспоминания и нашли свое отражение в фильме «Небо нашего детства» – в том эпизоде, где Калык вместо отца пасет в ночном лошадей и ему снится, что на табун напали волки…
Сайра-aпa часто вспоминала военные годы как время тяжких испытаний. Конечно, они не так голодали, как некоторые, не пухли от голода. Но постоянно недоедать – это тоже голод. А холод? Эта постоянная нехватка топлива в зимнюю стужу, отсутствие теплой одежды, обуви, эти железные печурки, которые остывали тут же, едва в них догорали последние куски кизяка – при воспоминании о тех холодах до сих пор мурашки по коже пробегают... А Толомуш был искренен, когда говорил, что детство – самая счастливая пора в жизни человека. Но часто вспоминал, и при этом не мог удержаться от слез, один трагический случай из детства, который, видимо, оставил в его душе глубокую рану.
В начале войны к ним в село приехали беженцы – эвакуированные, как тогда говорили. Это была еврейская семья из пяти-шести человек, они приспособили под жилье какую-то полузаброшенную постройку неподалеку от дома, где жил со своими родителями Толомуш. Эвакуированные держались обособленно, ни с кем не общались, видимо, опасаясь незнакомого им народа. Толомуш запомнил только девочку-подростка, тоненькую, хрупкую, с огромными печальными глазами. А однажды утром от землянки донеслись громкие крики, плач. Когда сбежались соседи, то из хижины вынесли вначале тела детей, а потом и взрослых… Беженцы были очень голодны, но не просили подаяния и не пошли на воровство. Их дети набрали где-то косточек урюка и зернышки сварили. И вся семья отравилась синильной кислотой – урюк был с горькой косточкой... Возможно, именно эта трагедия нашла со временем свое отражение в мо¬тиве обездоленных стариков и детей, который так выразительно прозвучал в фильме «Поклонись огню».
Толомуш часто говорил мне, особенно в последние годы: «Знаешь, у меня неплохая память. Я помню многое, причем события разных лет я сейчас вспоминаю по-другому: что с полным неприятием, что с трагизмом, что с юмором, что с налетом ностальгии и романтики... Получилось бы интересно, если бы я это написал. Но я хочу писать не ради коммерческого успеха книги, а для своих внуков, чтобы они знали меня с моих слов».
И я с большим огорчением думаю, что мы не можем теперь узнать его собственную оценку пережитого, не прочувствуем в полной мере его восприятие жизни, хотя – грех жаловаться – все это есть в его фильмах, а каждый фильм – прожитая им жизнь.
Сам он любил подтрунивать и над своими родными киргизами, и над нашим, как сейчас принято говорить, менталитетом, но он мгновенно отвечал на любой, мало-мальски обозначенный вызов, если речь даже в шутку касалась достоинства его любимой родины, его народа. Не могу не вспомнить, как однажды в Париже кто-то из сопровождающих лиц не без улыбки превосходства спросил Толомуша о том, что он, гость из Центральной Азии, думает об Эйфелевой башне? Потрясающее чудо современной инженерной мысли и технического прогресса, не так ли? Какая ажурность конструкции, а ведь стоит уже около ста лет...
– Безусловно, – охотно согласился Толомуш, – тем более что ажурностью конструкции напоминает кереге нашей юрты. Правда, юрта придумана задолго до «Манаса», а «Манасу» как-никак более тысячи лет… А если серьезно, то юрта в конструктивном отношении более совершенна и технологична, не говоря уж о ее практической востребованности и заложенной в ней философии.
– Почему вы так думаете? – не без обиды полюбопытствовал гид.
– И думать нечего. Наша киргизская юрта создана с самых современных позиций энергосберегающего и экологически чистого производства. Ее отшлифованные за века конструктивные особенности таковы, что я со своей семьей могу без особых усилий ее быстро разобрать, одним вьюком перевезти на любое расстояние и столь же быстро поставить там, где мне заблагорассудится. Попробуйте то же самое проделать с башней Александра Эйфеля, вы ее не перенесете никуда.
– Да мы и не собираемся этого делать. Башня Эйфеля хороша и в Париже.
– В ней нет души. Железка Александра Эйфеля чванливо вонзается в небо Парижа, – дескать, вот мы какие. Сфера юрты находится в полной гармонии с небесной сферой, чутко вторит ей, а купол юрты открыт всем звездам Вселенной...
В каждой шутке Толомуша присутствовала соль серьезного смысла, а его дружеская улыбка при этом лишала оппонента повода обидеться на сказанное.
Однажды режиссер Хамраев с семьей отдыхал вместе с нами на Иссык-Куле. Где-то шли летние Олимпийские игры, и, включив приемник, мы услышали о том, что наш бегун (кажется, Сатывалды) выиграл серебро на марафонской дистанции.
– Ну почему, – в сердцах воскликнул Хамраев, – у какого-то маленького Кыргызстана откуда-то берутся олимпийские призеры, а моих дорогих узбеков не видно и не слышно, куда они подевались, чем занимаются?
– Дорогой Али, – поспешил прийти на помощь товарищу Толомуш, – ты разве не знаешь, что большинство твоих сородичей заняты более серьезным делом, они сидят на базаре, а не бегают по стадионам...
С тем же Али Хамраевым запомнилась дружеская пикировка на Ташкентском кинофестивале. Узбекские друзья с присущим им радушием организовывали выезды за город, узбекские писатели устроили такой же прием для Чингиза Айтматова и киргизской делегации. Во время такого пикника, адресуя свои слова старшему поколению узбекских писателей, Али Хамраев с гордостью сказал:
– Истинно талантливый человек, как известно, талантлив во всем. Ты видишь, какие замечательные творения кулинарного искусства – этот божественный плов, эти восхитительные шашлыки – умеют создавать наши знаменитые писатели?
– Да, это удивительно, – тут же нашелся Толомуш, – а наш Чингиз только и умеет, что писать свои книги, – и обескураживающе хохотнул...».
«ЗАТО У МЕНЯ БЫЛ ИССЫК-КУЛЬ…»
В 1985 году издательство «Кыргызстан» выпустило в свет сборник статей «Толомуш Океев и его фильмы», посвященный пятидесятилетию кинорежиссера.
Сборник сложился как своеобразный «круглый стол» из очерков и рецензий преимущественно московских авторов – В.Фомина, И.Соловьевой, Е.Суркова, Е.Громова, Е.Габриловича, Ф. Агамалиева, а также фрунзенцев – кандидата филологических наук С.Джигитова и кинокритика Г.Афиджановой.
Эти публикации, написанные, видимо, под свежим впечатлением в связи с выходом на экраны страны того или иного фильма, посвящались преимущественно какой-то одной картине, печатались в разных периодических изданиях Москвы и Фрунзе. Эксклюзивным материалом явились лишь эссе «Золотая осень» Толомуша Океева», принадлежащее перу кинодраматурга Героя Социалистического Труда Евгения Габриловича, и глава «Кино – это не диетическая столовая», перепечатанная из книги В.Фомина «Пересечение параллельных», выпущенной в свет еще в 1976 году московским издательством «Искусство».
Но собранные под одной обложкой столь разные по задачам, подходу, глубине проникновения в творчество кинорежиссера эти материалы, безусловно, создают полихромный портрет художника и человека, значимость которого для дальнейшего культурного развития страны требует все новых и новых обращений к его наследию. И приходится сожалеть, что в этом сборнике не нашлось места для взволнованных слов Суйменкула Чокморова «У народных истоков», опубликованных в «Советском экране» в феврале 1972 года, для принципиальной статьи фрунзенского киноведа Олега Артюхова «Есть киргизское кино» (газета «Комсомолец Киргизии», апрель 1969 г.), для своеобразных дружеских комплиментов Леонида Гуревича («Я всегда завидовал манасчи», журнал «Советский экран», №7, 1970 г.), который в них тогда оговаривался, что «вряд ли приспело время для монографического исследования творчества режиссера» и что «первая лента режиссера (речь идет о фильме «Это лошади». – Прим. Л.Д.) и сейчас мне нравится больше всех: фильм вместил в малом многое».
Олег Артюхов, автор изданного в 1981 году издательством «Кыргызстан» справочника «Кинематографисты Советской Киргизии», чья киноведческая деятельность развивалась синхронно с развитием киргизского кино, писал в связи с «Небом нашего детства» тридцать пять лет назад: «Теперь, с его выходом на экраны страны, каждому ясно: киргизское кино есть. Но много ли зрителей познакомилось с фильмом даже в столице? Он шел несколько дней на одном дневном сеансе в кинотеатре «Россия» в полупустых залах. Потом его вовсе сняли. Говорят, что провалился в прокате. А почему? Некоммерческий? Да, он не рассчитан на кассу. Его адрес – зритель думающий, интеллектуальный. Я не хочу обвинять во всем прокатчиков. Сказывается наша общая беда – слабая работа по эстетическому воспитанию зрителя. Но разве не сыграло роли и то, что фильм почти совсем не рекламировался? Плакаты московского «Рекламфильма» запоздали, да и выполнены они плохо, стандартно, в каких-то блеклых, тусклых тонах. Посмотришь на такой киноплакат, и не хочется идти на фильм. Поскупилась и «Россия» на большую красочную, яркую рекламу. Необходимо исправить положение. Надо вновь выпустить на экраны столицы «Небо нашего детства». Нельзя мириться с тем, что один из лучших фильмов советской кинематографии последних лет остался незамеченным зрителем».
Что и говорить, сказанное актуально и сегодня... Однако вернемся к сборнику «Толомуш Океев и его фильмы», где очерк Валерия Фомина выделяется прежде всего тем, что многие его страницы представляют собой подробный, развернутый во времени неоднократных встреч пересказ бесед автора с Толомушем Океевым о киноискусстве и жизни художника вообще, а кинорежиссера – в частности. И хотя пересказ этот, естественно, подан в авторском ключе, зримое присутствие в нем индивидуальности Океева старательно сохранено, что и придает публикации особую ценность. Благодарно упомянув первоисточник, рискнем передать состоявшийся когда-то на берегу осеннего Иссык-Куля диалог московского киноведа и режиссера Океева на такую заезженную тему «Как вы работаете с актером?».
– Как работаю? Хорошо работаю. Будешь плохо работать – фильма не получится.
– Ну а все-таки? Есть какая-то система? Принципы?
– Система есть, – отвечает сходу Толомуш, и непонятно, отвечает он в шутку или всерьез. – У меня актеры сами работают. Почему я с ними должен работать? Они за что деньги получают? За то, что играют, а не «работают» с режиссером. Моя забота – выбрать актеров. Таких, чтобы с ними не нужно было работать…
И в этом – опять-таки весь Толомуш.
А начинается сборник вступительным словом самого кинорежиссера под заголовком «Немного о себе». Вот почему это издание особенно значимо, поскольку все на этих страницах – из первых рук.
«Я родился в юрте. С детства видел, как доят кобылиц, коров. Как варят мясо»…
В течение всего советского периода происхождение от сохи было предметом особой гордости, сродни дворянской или великосветской спеси, что сегодня опять надувается, как мыльный пузырь. У Толомуша это – констатация факта, хотя по семейным преданиям он появился на свет не в юрте, а в нише под огромным валуном, нависшим над тропой к речке. Не потому ли и вся жизнь Толомуша прошла в дороге, какие бы концы и подъемы не приходилось одолевать, какие бы неподъемные валуны не висели над его головой.
Подробности происхождения режиссера нужны прежде всего нам, чтобы коротко и внятно прояснить, откуда взялся мальчик Калык из фильма «Небо нашего детства» и мальчик Курмаш из «Лютого», столь разные по обстоятельствам судьбы и столь единокровные по своей сути.
«Что я видел в детстве и что запало в мою душу и навсегда отложилось в моей памяти?
Мать, отец. Нежность матери.
Горы. Голубой цвет Иссык-Куля. Очертания вершин Кун-Тыйбес, Тастар-Ата.
Лошади. Наигрыши комуза. Манасчи, родственники, знакомые...».
Толомуш предельно лаконичен в своем жизнеописании. Местами его манера письма напоминает лапидарный стиль тех автобиографий, которые писались когда-то при поступлении на работу для отдела кадров. Но даже в этих скупых строчках прорывается его натура, поэтическая образность мышления.
«С годами человек как бы отплывает от берегов детства. Все дальше удаляется от берега, от земной тверди. Все больше человек оказывается во власти стихии океана жизни. В борьбе с этой стихией надежда только на собственные силы, тем более когда эта борьба забрасывает тебя на совсем чужие, незнакомые берега».
И вот, вдали от родной земли, на самой западной оконечности тюркского мира, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кыргызстан господин Толомуш Океев в не самые, может быть, легкие минуты этой деятельности, как к какому-то целительному источнику, обратился к далеким годам своего детства и юности.
12.07.2001 г. он начинает писать свою автобиографию, от которой в домашнем архиве Океевых сохранились лишь несколько разрозненных страниц. Первую страницу он открывает возгласом «С Богом!», тут же оговариваясь, что «по верованиям я больше тотемист. Я с великим уважением отношусь ко всем религиям, которые придумали люди и из-за которых пролито столько человеческой крови. Я верую в мирозданье, космос, землю, воду, горы, воздух, т.е. в живую природу... Во мне сидит менталитет моего киргизского народа, который только формально принял мусульманство (примерно в XVII-XVIII вв.), а, по сути, всегда оставался приверженным тотемизму. Не зря одна из высочайших вершин на Иссык-Куле имеет название Хан-Тенгри... Оглядываясь с высоты своих шестидесяти пяти лет, я вижу, что тотемизм сидит у меня в крови. Во всех своих фильмах я снимал горы, реки, Иссык-Куль и животных, которых я знаю с самого раннего детства и которых бесконечно люблю.
Семейная юрта, где я родился, стояла на берегу реки Тон, возле большого камня. Мать и отец всегда это место мне показывали, переправляясь на лошадях через речку.
Отец, Касымбаев Окей, 1910 года рождения, еще до войны стал инвалидом, лишившись из-за гангрены правой ноги. Все же он сумел окончить семь классов и считался грамотным среди своих сородичей. Он даже учительствовал в начальных классах школы аила Туура-Суу.
Мать, Касымбаева Сайра, 1913 года рождения, из рода саяков, человек Богом одаренный воображением, но очень неуравновешенным характером, едва окончила ликбез. Она умела расписываться, могла пользоваться счетами. Это давало ей возможность работать продавцом сельских магазинов. Натура у нее была широкая, и магазинные товары она расходовала, как свои собственные. И каждый год во время ревизий наша семья и наши ближайшие родственники с большим напряжением покрывали эти растраты.
В начале Великой Отечественной войны наша семья среди нищих односельчан считалась обеспеченной, но, начиная с 1942 и по 1950 год мы жили в полной нищете и буквально голодали. В те годы мне часто приходилось видеть умерших от голода и холода. Недаром наш район называется Тонским, то есть «мерзлым», а в те годы особенно не удавались зерновые, овощи, фрукты, да и по сей день наш район приравнивается к высокогорным, то есть неблагоприятным для нормальной жизни людей.
В начале войны мы жили в с. Боконбаево, в Тонском райцентре, где отец работал завотделом райсобеса по социальному обеспечению инвалидов и многодетных матерей. Мы жили в двухкомнатном саманном домике, большая комната которого (20 кв. м) служила спальней и столовой, а прихожая (10 кв. м) была кухней, раздевалкой и складом одновременно. Зимой большая комната отапливалась буржуйкой, а поскольку пол в комнатах был земляной, то сырость и холод в доме ощущались постоянно. Старшая моя сестра и я родились в аиле Туура-Суу, что означает Поперечная река, а остальные шестеро – сестры Эркингуль, Токтогуль, Маххабат, братья Джениш, Кенеш, Толен – родились в этом маленьком неуютном домике с глиняным и всегда сырым полом.
В первый класс я пошел в 1943 году. В разгар войны и голода – в среднюю школу им. М.Горького. Школа была рядом, надо было идти через спортплощадку. Я за три-четыре минуты успевал к началу уроков, но то, что спортплощадка была рядом с домом, создавало для повседневной жизни массу неудобств.
После безрадостной домашней обстановки школа и ее светлые большие классы создавали для меня ощущение праздника. Учился я всегда очень хорошо, до сих пор сохранились похвальные грамоты. Как бы тяжело ни было в военные и послевоенные годы, а ощущение праздника детства сохранилось на всю жизнь...
Аил наш был удален от центров культуры, и в силу этих причин я, естественно, не имел возможности рано приобщиться к профессиональному искусству театра, классической живописи и всему тому, к чему многие мои коллеги получили прямой доступ еще в детстве.
Зато у меня был Иссык-Куль. Были горы. Величественная и прекрасная природа, которая тоже по-своему и учила, и воспитывала. А еще был фольклор – песни, эпос, народные легенды. Мне повезло. Я еще застал самых великих наших манасчи, моих земляков – Саякбая, Мамбета и др. Не раз я слышал и видел выступления замечательных народных музыкантов-комузчу и сказителей. Это была для меня высшая академия приобщения к народному искусству. Позже я познакомился с классическим искусством, с другой культурой. Мне и в этом отношении повезло: я учился в Ленинграде и в Москве – в городах с богатейшим культурным наследием, великолепными музеями, театрами. Это знакомство с современным искусством, с вершинами мировой классики дало мне очень и очень многое. И все-таки главную роль в моем воспитании как художника сыграло киргизское народное искусство, с которым я встретился в голодные и холодные годы моего детства.
Как старшему, мне пришлось заботиться о семье. Пасти лошадей, корову – нашу кормилицу, сено запасать на зиму. Все эти хозяйственные заботы лежали на моих плечах. До пятнадцати лет.
После восьмого класса поступил учиться в школу-интернат № 5 имени А.С.Пушкина во Фрунзе. В интернате я как будто попал в сказочный мир. Кормили, кино показывали…».
Такой была сказка, которая стала былью для юного Толомуша.
«Кормили. Кино показывали»... Школа-интернат № 5 имени А.С.Пушкина в судьбах киргизских интеллигентов первых поколений была поистине царскосельским лицеем: через нее прошли многие видные деятели киргизской культуры, искусства, образования и государственности. В стенах пятой школы начинали мечтать о кино многие киргизские кинематографисты. Толомуш, однако, о кино не мечтал. Он хотел быть геологом. Рядом с родной Кольцовкой, позже переименованной в Боконбаево, был расположен «почтовый ящик» Каджи-Сай, урановый рудник, где инженер-геолог был одной из самых романтичных и высокооплачиваемых фигур. А Толомуш не был чужд романтики, причем не книжной, а реальной, связанной с экспедициями и поисками в горах полезных ископаемых; при всей своей любви к старику Бакаю, его профессия Толомуша не привлекала, как и вымышленных впоследствии его юных героев. И хотя в школе Толомуш учился хорошо, он сознавал, что его четверки и пятерки для поступления в престижный технический вуз могут оказаться недостаточными. А вот ЛИКИ – Ленинградский институт киноинженеров – особой популярностью среди абитуриентов не пользовался, так что проблема поступления в этот институт могла быть вполне решаема. К тому же, приемная комиссия работала во Фрунзе, а дома, как удалось убедиться, действительно и стены помогают.
ЛИКИ – «КИРГИЗФИЛЬМ» – ВЫСШИЕ КУРСЫ
Учеба давалась непросто. «Все-таки, – как признавался Толомуш, – ЛИКИ – вуз инженерный, требовались фундаментальные знания. У меня были пробелы...». Самыми трудными показались первые три курса с их основными дисциплинами электротехнического факультета. Тут проявил характер, «был движим огромным желанием окончить вуз, получить высшее образование. Ведь мне надо было кормить семью», – фраза характерная для Толомуша, ему с мальчишества было свойственно повышенное чувство ответственности за близких, за все то, что он делал. И вся последующая жизнь строилась в созвучии именно с этим нравственным камертоном верности и надежности, чего так не хватает в нашем переменчивом мире.
Именно тогда, на пятом курсе ЛИКИ, Толомуш женился на своей Жумаш, с которой, как выяснилось, он учился еще во фрунзенской школе-интернате. Но, поскольку она была младше на два года, внимания на нее он тогда не обращал. В Ленинграде – обратил. И на всю жизнь. Жумаш училась в Текстильном институте, и вечера киргизского землячества по праздникам помогли им не только скрашивать разлуку с родиной, но и найти друг друга.
Специализацию проходил в группе звукооператоров и считал, что ему крупно повезло. Еще в школьные годы он тяготел к гуманитарным наукам, любил историю, литературу. Тем больший интерес вызывали у него занятия, которые вели в операторской группе специалисты из «Ленфильма» и известнейших ленинградских театров. Само общение с этими мэтрами все определенней поворачивало его судьбу в сторону искусства, кино, хотя об этом ему прежде не приходилось и думать. И, конечно, образовывал сам Ленинград, вся аура культурной столицы огромной страны, с ее Дворцовой площадью, с ее театрами, которые в те времена были доступны даже студентам, а больше всего – образовывало дружеское общение с однокурсниками-ленинградцами, которые чувствовали себя в этом огромном городе, как он когда-то чувствовал себя в родном Туура-Суу, и переписку с которыми поддерживал и после окончания института. Что ж, может, они и не знали на память все слова «Гаудеамуса» на латыни, но уж вагоны товарняка на брудершафт не однажды разгружали, чтобы дотянуть до
стипендии. На помощь из Боконбаева рассчитывать не приходилось, надеялся всегда только на себя, на свои силы, в которых никогда не сомневался, что иной раз и приводило к завышенной самооценке достигнутого. Но это тоже помогало удержаться на плаву, тоже было школой, уроки которой на выдержку, на выживаемость оказались востребованными на режиссерской стезе. А преподаватели-ветераны ЛИКИ, встречая в киноведческой прессе знакомую фамилию, еще долго вспоминали настырного студента из Киргизии, который одолевал высоты профессии не только трудолюбием и выдержкой, но прежде всего – умом.
После окончания ЛИКИ Толомуш Океев получил направление на студию «Киргизфильм», где был принят на работу в должности звукооператора документальных и художественных фильмов.
Из первых записей в творческой карточке Т. Океева: «Юность наших отцов». Звукооператор дубляжа (26.01.59); «ЧП», 1 серия. Звукооператор дубляжа (28.03.59); «ЧП», 2 серия. Звукооператор дубляжа (11.04.59)… И только еще через пять лет запись должности меняется: «Это лошади». Режиссер. (IX. 1965); «Небо нашего детства». Режиссер-постановщик, автор сценария (IX. 1965 – VIII. 1966)…
Как вспоминает один из старейших киргизфильмовцев, звукооператор Николай Бондаренко, работавший в то время начальником звукоцеха, Толомуш быстро вошел в коллектив студии благодаря своему открытому, «компанейскому» характеру: в одиночку на какой-либо картине ему работать было неинтересно, и он обычно приглашал кого-то еще, видя в совместной работе с более опытными коллегами возможность узнать что-то новое. Так, он любил работать с более старшим по возрасту, музыкально одаренным и весьма начитанным человеком, тоже выпускником ЛИКИ, Юрием Шеиным. «И первая же фонограмма, осуществленная им вместе с Юрием Шеиным, при всех огрехах стала явлением искусства, – отметил давнюю работу звукооператора Океева киносценарист, заслуженный деятель искусств России Леонид Гуревич. – Кто помнит фильм «Зной», не забудет тонкого плетения пленительной музыки Р.Леденева с проскоками табунов, надсадного рева тракторной пахоты, всплеска женского пения сквозь гул рвущихся в степном полете самосвалов».
Да, так совпало, и это было знаменательно, что Толомушу довелось в первый же период его деятельности на «Киргизфильме» поработатъ в съемочной группе тогда еще мало известных, но сразу же во весь голос заявивших о себе выпускников ВГИКа – режиссера Ларисы Шепитько и оператора Юрия Сокола. Затем Толомуш будет работать с таким замечательным документалистом «Киргизфильма» тех лет, как Юз Герштейн, на художественном фильме московского режиссера М. Рошаль «Улица космонавтов»… В тот период он осуществил дубляж более двадцати художественных картин, звуковое решение целого ряда документальных и научно-популярных фильмов, что, несомненно, не только укрепило его уверенность в своем профессионализме по полученной специальности, но и привело к решению заняться режиссурой, в чем он видел единственную для себя возможность самовыражения в киноискусстве.
Но в те годы для того чтобы получить право на постановку художественного кинофильма, надо было иметь диплом режиссера. И Толомуш в 1964 году вновь едет учиться – он поступает на Высшие курсы сценаристов и режиссеров при ВГИКе.
Не просто было далеко не мальчику, а отцу семейства, не имея никакой материальной поддержки со стороны, решиться вновь оказаться на студенческой скамье на два долгих года. Но поддержка все-таки была. И самая нужная. Со стороны Жумаш:
– Раз ты считаешь, что так надо – значит, надо…
В семейном архиве Океевых сохранилась ученическая тетрадь с отпечатанным на пожелтевшей обложке сугубо казенным текстом: «Тетрадь… учени... класса... школы…».
В места многоточия рукой Толомуша вписаны соответственно «ка», «режиссерской», «Океева Т.». И шутливыми вставками унылая обложка словно осветилась улыбкой Толомуша. В этой ученической тетрадке Толомуш трудолюбиво, убористым мелким почерком торопливо записывал те фрагменты лекций по истории советского кино, которые считал для себя важными, и потому старался успеть записать или хотя бы восстановить в памяти то, что не успел записать на лекции. И, воспроизводя здесь ее фрагменты в той степени, в которой удалось их расшифровать, мы соприкасаемся с кругом вопросов, на которые начинающий режиссер пытался обрести ответ, еще не догадываясь, что на это не хватит и всей предстоящей жизни.
«…Кулешов снимал по методу американцев, т.е. применил монтаж, что было впервые в советском кино.
Кулешов приходит к мысли, что кадр сам по себе ничего не решает, а определяет все монтаж. Кадр он считал буквой в слове, т.е. должен быть однозначным и выразительным…».
Последняя запись в этой тетрадке была сделана 6.04.64 г. Лекция посвящалась разбору фильма «Мать» Пудовкина, оператор Головня, 1926 г. Затем записи становятся все более лаконичными, все более неразборчивыми, прочитываются только фамилии Юткевича, Мейерхольда, Эйзенштейна, Эрмлера, пока не обрываются совсем. Дальше – чистые страницы, словно лекции прекратились или студент утратил к ним всякий интерес. Тем более что на последней странице этой тетрадки красуется размашистая запись о том, что «прием посуды производится в конце здания направо, на пустыре». Текст явно намекает на вольности студенческой жизни...
В домашнем архиве Океевых сохранились и другие записи, к сожалению, разрозненные, не всегда датированные, но однозначно свидетельствующие о том, что по мере прохождения программы Высших курсов ее задачи становились все более недостижимо высокими, а двухгодичный срок все более несоизмеримо малым. О чем бы ни зашла на лекциях речь – все кажется теперь чрезвычайно важным, практически необходимым, а каждая упомянутая преподавателем книга записывалась. Именно тогда чтение стало повседневной потребностью, а хождение по книжным магазинам – такой же нормой жизни, как для верующего – хадж по святым местам.
«Зарубежные книги: Тамерлейн. Американские сценарии. Лоусен – теоретик №I за рубежом по кино. Его мы обязательно должны знать. «Динамика фильма», Фельдман. Чтобы освоить Эйзенштейна – «Избранные статьи». «Монтаж», 1938 г.
14.II.64. Место драматургии в кино.
1. Замысел художника в широком смысле; то, что вошло и не вошло.
2. Полнота воплощения идеи в фильме.
3. Домысливание зрителем, т.е. ассоциации зрителей при просмотре фильма.
Происходят некоторые споры по этим вопросам. Например, по третьему вопросу во время культа требовалось, чтобы все четко формулировалось, т.е. зритель не должен был активно домысливать сам, ему разжевывали. Эта инерция до сих пор продолжается.
Другая крайность, особенно на западе, – они говорят, что мир неизменяем (непознаваем?), что не нужно логических изложений, а нужно вызывать ассоциативные чувства, и не надо ни имени героев, ни места действия.
Это формальное искусство для определенной элиты. Это ведет к абстракционизму. Диалектику развития образа мыслей выражают невысказанные мысли, т.е. как айсберг: 1/10 часть выходит на поверхность воды, а остальная часть – под водой.
Творчество Дзиги Вертова. Он начинает эксперимент в двух направлениях:
1) с точки зрения камеры, материала;
2) монтажа.
Т.е. киномонтаж и киноглаз.
Он в своем творчестве ненавидел художественные фильмы, считая, что худ. фильм – это опиум для народа... Он признавал ленты, которые снимали «жизнь врасплох».
В. считает, что во время съемки фильма может уже сниматься монтаж. В. и его операторы очень увлекаются возможностями кинокамеры. Вертов широко использует съемку с движения или меняет разный ракурс. Итальянский неореализм тоже начинал с эпизодов «жизни врасплох». Этот метод имеет многие преимущества, тем не менее имеет многие ограниченности. У них второй план всегда прозаичен, т.е. естественный. Киномонтаж – организовать монтаж будущего фильма во время съемки.
Шкловский (1926 г.) говорил о кинопоэзии и кинопрозе. Интересное деление у Андре (неразбор.), французского кинокритика. Он уже в немом фильме видит два типа художников: видящие образно и видящие реально.
Открытие звука Вертова не смутило, т.к. он всегда искал новое, поэтому он сделал картину «Симфония Донбасса». Фильм создан на интересных звуковых контрапунктах.
Нея Зоркая – 24.11.64.
Шли долгие споры: фильм «Броненосец «Потемкин» родился в сценарии или за монтажным столом? Эйзенштейн, как большой художник, через частные факты мог выразить эпические, исторические события. Напр., события в фильме «Октябрь» на углу ул. Садовой и Невского проспекта.
Образы некоторых частных случаев в Эйзенштейне рождали ассоциации будущих фильмов.
Монтажная теория Эйзенштейна.
Он утверждал, что в спектакле монтажные куски должны состоять из ошеломляющих воздействий, т.е. из монтажных аттракционов...
Об Эйзенштейне всегда говорят как об открывателе интеллектуального кино. Сегодняшнее кино – это, безусловно, кино интеллектуальное.
М.Антониони. Он говорит, что не хочет давать объяснение тому, что делает, он отказывается от оценок своих героев, от объяснения мотивировок фабулы. У него остается необыкновенно сложный сюжет.
1) При отсутствии фабулы он сюжет раскрывает через мелкие действия, т.е. очень трудная работа.
2) Раскрывает сюжет через необыкновенно точно построенные композиции, которые сами по себе произведение искусства.
Антониони каждый кадр строит, организует, в отличие от представителей новой волны».
«ЭТО ЛОШАДИ» – «ХРОНИКА» – 1965 год
Оглядывался ли Толомуш когда-нибудь на эти свои поспешные студенческие записи – теперь никто не скажет. Но в его режиссерских решениях отдаленное эхо тех мастеров, которые когда-то впервые «изобретали велосипед», все-таки прочитывается... Но прежде всего, в самом начале первой страницы его курсовой записной книжки – мини-тетрадки для записей слов ученика первого класса режиссерской школы Толомуша Океева – черным по белому записано:
«Варианты:
1. Жылкычылар женунде фильм тартып коруш керек.
О повседневной трудной, но поэтической жизни табунщиков».
После чего была еще раз поставлена цифра 1, но вариантов не последовало. Не было у него других вариантов. Ему, как видно, хотелось прежде всего снимать то, что он задумал, еще работая звукооператором, и к чему обязательно хотел вернуться после окончания двухгодичных курсов. И даже до этого. Ведь он, конечно же, знал, что по существовавшим тогда положениям он должен был снять свою курсовую, а затем и дипломную работу на базе «Киргизфильма», к чему он и начал загодя готовиться. Тема? Ну, конечно же, «О повседневной трудной, но поэтической жизни табунщиков». И хотя творческих командировок для изучения этой жизни ему не понадобилось, в его общей тетради летом 1964 года появилась весьма деловая и характерная для него запись:
«Конезаводы Киргизии:
Таласский р-он. №113 конезавод.
Новокиргизской породы лошадей.
Сезон кумыса: с 20 мая по 10 сентября.
Лучший табунщик: Чоробай.
Директор совхоза: Кыдыралы Шыгаев.
Зоотехник: Бекбоев Сагымбай.
Большинство натурных съемок – на джайлоо Таласского района. Путь по дороге Фрунзе – Ош.
Конезавод расположен в районе Чолпон-Аты. В табуне 80-90 кобыл-маток».
На эту генеральную диспозицию предстоящей кампании неизбежно накладывались рекомендации людей, мнением которых Толомуш дорожил, тем более если их предложения совпадали с его собственными мыслями по тому или иному поводу.
Ну, скажем, он был бы не против, чтобы его малолетний герой отправился из города на каникулы к своему деду Бакаю, пасущему лошадей среди альпийских лугов, не на каком-нибудь затрапезном автобусике или на попутном грузовике, а на вертолете… И современно. И экономия экранного времени. А какая верхняя точка для съемки! Это ж куда бы ни летел, а Иссык-Куль хоть краем глаза заденешь... Да и чего только можно не придумать с этим вертолетом!
А началось все очень просто. По возвращении во Фрунзе после защиты диплома Жумаш работала инженером-экономистом на трикотажной фабрике. А тут Толомушу надо ехать в Москву, на Высшие курсы, а как одной управиться с ребенком? И Жумаш, как было заведено в молодых киргизских семьях, решила отправить малыша на воспитание к матери, в село. Океевы жили тогда в районе старого аэропорта, и Жумаш знала, что на Кочкорку есть вертолетный рейс. Это было очень удобно: без всяких автобусов и пересадок дошла до аэродрома – и уже через сорок минут у мамы, дом которой в Кочкорке стоял на краю летного поля. Так Жумаш впервые увидела сверху вершины гор, Боомское ущелье, Иссык-Куль сверху, а над ним, внизу, облака. Таким впечатлением нельзя было не поделиться с Толомушем, когда он приехал на летние каникулы и засел за сценарий дипломного фильма. Толомуш умел слушать, и вскоре Жумаш увидела описание этого маршрута в общей тетради Толомуша, где он на сорока страницах своим торопливым почерком изложил подробную канву того, что через два года стало «Небом нашего детства». Возможно, это был литературный сценарий. Не зря же он писал его на русском языке, явно рассчитывая показать в Москве преподавателям. Вернее, черновик, с его угловатостью поспешно набросанных строк, с обрывками слов: разобраться в падежах, суффиксах и прочих премудростях у него не было времени.
Одно несомненно: к написанному Толомуш отнесся весьма серьезно, и титульный лист торжественно украшен традиционным «Биссмил-ла рахман рахим», то есть «Во имя Аллаха милостивого, милосердного, Господи, благослови».
Завершение в августе 1964 года этой сценарной разработки вовсе не означало начала съемочного периода: не диктовали его ни вгиковское расписание учебного процесса, ни готовность киностудии «Киргизфильм» обеспечить киноэкспедицию дипломанта всем необходимым. Все определяла так называемая «уходящая натура», то есть расплодная кампания на пастбищах Суусамыра и сезон кумыса «с 20 мая по 10 сентября». Так что свою курсовую работу, которая изначально мыслилась как пробный шар дипломного полнометражного игрового фильма, Толомуш начал снимать без всякого сценария, в полном соответствии с укоренившимся у киргизфильмовских документалистов принципом «война план покажет».
И она показала. В первый же день пребывания на Суусамыре, когда ночевавшие в юрте табунщиков оператор Кадыржан Кыдыралиев и его ассистент Сагын Макекадыров вышли к речке умыться, они увидели на берегу рожавшую кобылицу.
«Камеру!» – первое, что смог, ни минуты не раздумывая, выкрикнуть Кадыржан. И они успели снять этот эпизод! На самом острие неприглаженной резкости и нежности. И запечатленное ими мгновение нарождающейся в муках и крови новой жизни стало лейтмотивом всей океевской курсовой, да и не только курсовой. Конечно, это можно было бы назвать счастливой случайностью, если б эта «случайность» не была на пастбищах прозой жизни. Но сколько режиссеров и операторов хроники встречались на своем веку с этой прозой, сколько отворачивались от ее подобных откровений. Толомуш не отвернулся. Как не отвернулся и от жестокостей прозы жизни на живодерне, как не ушел и от возникшей перед ним моральной необходимости сказать с экрана своими словами о том, как все-таки человеку не хватает в первую очередь именно человечности.
Нельзя сказать, что курсовая работа Толомуша вызвала взрыв восторженных рукоплесканий: даже лояльно относящиеся к нему кинодеятели осторожно высказывались в том смысле, что, дескать, лента неординарна, что она задевает за живое, и потому, что там говорить, имеет право на существование.
Но как нередко пишут о произведениях искусства, которые после их создания начинают жить своей жизнью, лента Толомуша стала набирать в значимости, уже не умещаясь в формате учебной работы, для которой поначалу не нашлось даже более подходящего названия, чем «Хроника» и «Это лошади»…
Однако по существовавшим тогда правилам курсовая работа могла быть зачтена лишь в том случае, если она сопровождается соответствующим сценарием, а такой сценарий надо было еще написать. Толомуш, конечно же, сознавал, что у него «есть проблемы с русским языком», которого хватало на бытовом уровне, но не выше. Надо было приглашать какого-нибудь сценариста, но откуда у студента такие деньги? В подобных случаях выручал свой брат-студент, и так всегда было принято во ВГИКе. Студенты-операторы помогали студентам-сценаристам, студенты-сценаристы – операторам. Толомушу, как земляку, согласился помочь студент сценарного факультета Кадыркул Омуркулов. У Кадыркула, выросшего в городе, да еще и в писательской среде, не было проблем с «великим и могучим». К тому же у него уже был опыт написания текстов для нескольких документальных лент. А положить на бумагу сюжет уже смонтированной документальной одночастевки и вовсе не составило для него особого труда. Так он стал автором сценария самой яркой океевской короткометражки.
Что и было зафиксировано в исходных титрах.
Но такой поворот дела, как вспоминает Кадыржан Кыдыралиев, Толомуша не устроил, и он как-то завел разговор о том, что не возражал бы увидеть свою фамилию в титрах «Это лошади» как соавтора сценария. Но Кадыркул якобы возразил, дескать, смешно, что на одночастевку приходится два автора сценария. И Толомуш по щедрости своей согласился, конечно же, не подозревая, что на эти грабли авторства он еще наступит не раз.
Впрочем, лента-малышка принесла ему куда более серьезные поводы для отнимающих время и нервы разборок – с официозной прессой.
В архиве Океевых хранится тетрадь, в которой Толомуш старательно конспектировал попавшие ему на глаза газетные отклики на только что вышедший на экраны страны фильм «Это лошади», которому он придавал принципиальное значение и потому болезненно реагировал на критические перехлесты, а то и на заданность иных пассажей, в которых явно читалось недовольство высоких инстанций, бдительно надзиравших за идеологической благонадежностью произведений искусства и их рецензентов.
«Мы рады, – писал тогда в своей тетради Толомуш, – что о нашем маленьком фильме, кстати говоря, снятом как технический и творческий этюд будущего большого фильма, такие разные газеты написали такие разные мнения…».
Газета «Известия» в конце 1966 года назвала картину «Это лошади» в числе лучших десяти фильмов, отобранных «Союзэкспортфильмом», которые будут представлять наше киноискусство в Лондоне.
В августе 1966 года газета «Известия» печатает статью «Путь к большому экрану», в которой называет таких интереснейших художников документального кино Киргизии, как Т.Океев, Б.Шамшиев, Б. Галантер, Ю.Герштейн. «К сожалению, – пишет газета, – система проката не дает возможности массовому зрителю познакомиться с их работами. Многие ли видели «Это лошади» Т.Океева? А между тем по своему философскому звучанию, по степени эмоционального накала эти картины относятся к произведениям кинодокументалистики самого высокого уровня».
Сегодня, спустя почти сорок лет, увидеть на экране «Это лошади» и вовсе невозможно. Исходной картины Толомуша Океева нет даже в собраниях фонда Океева, не сохранилась она в полном объеме и в фильмосейфе киностудии «Кыргызфильм» имени Т.Океева. Поэтому, чтобы читателю было понятно, о чем идет речь, придется воспользоваться прекрасным пересказом этого десятиминутного этюда, написанным Леонидом Гуревичем в его статье «Я всегда завидовал манасчи», которая была опубликована в журнале «Советский экран» (№7, 1970 г.).
«Рождался в крови и муках жеребенок на горном пастбище, бегал на неокрепших ногах рядом с матерью, дышал азартом свободы... Потом была бешеная погоня, свист укурука-аркана, непонятная петля на шее, падение, снова взлет и снова падение, тяжесть седока, боль от удил, злость, обида, плен... Потом – гул ипподрома, звон колокола, напряженная устремленность к цели, крики победы. Потом – самое страшное: старость, бойня, удар копья забойщика, слезы в глазах лошадей, стоящих рядом... И вновь скакали в эпилоге гордые и прекрасные непокорные кони…»
«Океев сочинил горькое и страстное киностихотворение. Менее всего это был протест вегетарианца, члена общества покровителей животных. Образный смысл вещи не был прямолинейным, но открывался со всей неизбежностью. «Деточка, все мы немножко лошади», – писал великий поэт. «Не хочу быть такой лошадью!» – горячился один зна¬комый кинематографист. Но режиссер Океев обрел главное: умение говорить с экрана с предельной искренностью про свое, про то, что болит».
Теперь будут понятны те победные реляции, которые иногда мелькали в прессе тех лет. Октябрь 1966 года – газета «Советская культура»:
«О современности и современниках
Живейший интерес кинематографистов и зрителей вызвали картины «Трудная переправа» М.Убукеева, «Это лошади» Т.Океева, «ПСП» А.Видугириса. Они отмечены призами на кинофестивалях в Алма-Ате и Ашхабаде».
Сентябрь 1966 года – газета «Советская Киргизия»:
«Новые победы «Киргизфильма»
В сентябре новый фильм Б.Шамшиева «Чабан», а также известный широкоэкранный «Это лошади» режиссера Толомуша Океева в числе лучших документальных лент мастеров экрана нашей страны будут демонстрироваться в Лондоне в дни недели советского фильма. Обе эти картины отобраны и на Международный фестиваль нынешнего года, который состоится в ФРГ.
Корреспондент КирТАГ».
Годом раньше, в ноябре 1965 года газета «Советская Киргизия» напечатала на своих страницах и весьма благожелательную статью о фильме «Это лошади» – «Поиски продолжаются».
«Хроника» – это удивительно цельный, созданный на едином дыхании этюд, подобный крику, вырвавшемуся из сердца человека, жизне¬любивого и мудрого, которому дорого все живое, – делилась своими размышлениями с читателем внештатный автор газеты Н.Мнацаканова. – Вы должны быть разумными, говорят авторы «Хроники». За последние десять лет (т.е. 1953-1964 гг.) поголовье лошадей в Киргизии сократилось вдвое (47 000 и 22 000). Значение лошадей в Киргизии – общеизвестная истина. Без них немыслимо овцеводство в труднодоступных горных районах. А кумыс? Отдаем ли мы себе отчет в том, как полезен этот напиток для человека?..
«Хроника», т.е. «Это лошади» – это фильм, ратующий за разумность, сердечность, доброту, он заставляет размышлять.
Это проба сил, генеральная репетиция перед полнометражным игровым фильмом из жизни табунщиков».
Тем неожиданней была статья под крикливым заголовком «Правда факта и позиция художника» некоего А.Липпе, опубликованная в той же газете 1 апреля 1967 года. Понятно, что каждый человек имеет право на свое, личное мнение о той или иной картине любого автора, не взирая на личности, но в данном случае речь шла не о свободе высказывания диаметрально противоположных точек зрения, и Толомуш, конечно же, это понимал.
Дело в том, что комплиментарная статья внештатного автора Н.Мнацакановой, нередко выступавшей в те годы во фрунзенских газетах со своими заметками о киргизском кино, и даже безобидные реляции корреспондентов КирТАГа об успехах киргизских кинематографистов явно вызывали неудовольствие идеологических чиновников, у которых было иное мнение о тенденциях, вызревавших на «Киргизфильме». И жестко курируемая ими газета вынуждена была пойти на публикацию статьи, которую Толомуш назвал «дацзыбао». Фамилия рецензента ныне ничего не говорит, неизвестно теперь и то, легли ли толомушевские ответы на редакторский стол, или, выплеснув свои эмоции на бумагу, Толомуш утратил к ним всяческий интерес. Во всяком случае, на страницах газеты, в ее рубриках «По следам наших выступлений», «Нам пишут», «Письма наших читателей» они не были замечены и, стало быть, мирно почили либо в домашнем, либо в редакционном архиве.
Сегодня, видимо, надо напомнить, что в шестидесятые годы минувшего века, то есть как раз в то время, когда создавались первые фильмы Толомуша Океева, в республике велись интенсивные строительные работы по возведению крупных ирригационных систем, гидроэнергетических узлов, горнорудных предприятий, автомобильных дорог, карьеров по добыче угля, рудных и нерудных полезных ископаемых, причем эта хозяйственная деятельность все более захватывала самые отдаленные и еще не затронутые так называемой цивилизацией уголки горной природы.
И потому фигура строителя, дорожника, горняка была фигурой для того времени плакатной, знаковой, ей посвящали свои передовицы все газеты, с ней связывалось экономическое развитие республики, ее будущее. И вот на этом фоне, созвучном с широко известным и любимым в народе маршем энтузиастов, вдруг «Киргизфильм» выпускает картины, явно выпадающие из ряда «будней великих строек, веселых грохотов огня и звонов». Один из таких фильмов под названием «Бумеранг» режиссера И.Герштейна и оператора Б.Галантера и послужил затравкой статьи «Правда факта и позиция художника».
Объективности ради критик отмечает, что «этот фильм великолепно снят, отлично музыкально оформлен... Он мог бы стать явлением в нашей кинопублицистике. Мог и... не стал. Почему?».
За ответом дело не стало.
«Вы выходите из зрительного зала. Хорошо чувствуете, что в фильме есть злость. Но против кого она направлена? Вновь вспоминается центральный эпизод: скалы, взрыв, мертвые птицы. Кто виноват в гибели птиц? Равнодушные к природе люди? Варвары в современных комбинезонах, которым безразлично, что и где взрывать!..
Бездушных головотяпов, конечно же, стоило высечь на экране. Но в том-то и дело, что мы не знаем, о них ли идет в фильме речь. Авторы фильма только констатируют факт, и только факт. Виновники происходящего не конкретизированы, их нравственная, их человеческая основа не вскрыта. В картине действуют ни плохие, ни хорошие люди. Просто люди, делающие свое недоброе дело.
И тогда возникает вопрос: а почему, собственно, недоброе?.. Авторов не интересует анализ явления. А без конкретного анализа, рассматривая это явление с объективистских позиций, можно дойти до абсурда. Негодовать, например, вообще на строительство в горах, в лесах. Обвинить в черствости тех, кто занимается добычей нефти в водоемах (рыба-то, рыба гибнет!)...
Так безадресность, в данном случае недифференцированный подход к явлениям на экране, приводит к смысловому каламбуру. Природа и человек в фильме втянуты в неразрешимый в современных условиях конфликт. Человек (не конкретный, а человек вообще) выглядит убийцей природы, природа же – его жертвой…».
«Может быть, и не стоило бы сегодня столь подробно говорить о фильме, созданном несколько лет назад, не появись у «Бумеранга» «духовного», так сказать, преемника, – продолжает наставлять кинематографистов автор «Правды факта и позиции художника». – Речь идет о картине «Это лошади», поставленной на «Киргизфильме» режиссером Т.Океевым по сценарию К.Омуркулова и снятой оператором К.Кыдыралиевым...
И опять человек – негодяй, преступник по отношению к животному миру, к природе. Если лошадь на экране – друг человека, то человек ей – враг. И опять явление, лишенное анализа, факт, отделенный китайской стеной от здравого смысла.
Естественно, зрителя раздражает такой авторский произвол. Недавно в редакцию пришло письмо. Автор его, студент Киргизского государственного университета А.Абдыкадыров, посмотрев фильм «Это лошади», решил высказать о нем свое мнение: «Из всех документальных фильмов, которые я видел за свою жизнь, этот – единственный, где я не понял, что же хотели сказать авторы... Ведь лошади – прежде всего животные. Такие же, как коровы, бараны, козы... И они, эти последние, могут обидеться: почему о лошадях фильм снят, а про нас забыли? И мы тоже хотим в кино. Мне кажется, претензии этих обиженных вполне справедливы. Я понимаю их. А режиссер поймет ли? Словом, пора создать фильмы «Это – козы», «Это – коровы», «Это – бараны». Пора!». «Думается, эта ирония вполне оправдана, – спешит присоединиться к непонятливому студенту «понятливый» журналист и разъясняет: она – плата за претенциозность, надуманность, которыми грешит эта лента, добрая к лошадям и донельзя жестокая к людям».
Надо сказать, что в те годы в газетах существовала рубрика «По следам наших выступлений», в материалах которой читатель информировался о том, какие оргвыводы и конкретные меры были приняты соответствующими организациями в связи с отмеченными газетой недостатками. Нетрудно было бы предположить, что едва ли Океев получил бы вскоре доступ к производству следующей картины, если бы короткометражка «Это лошади» не вызвала бы комплиментарные отзывы в центральной прессе, если бы уже снимавшийся в ту пору полнометражный фильм «Пастбище Бакая» не проходил бы по всем инстанциям как дипломная работа выпускника Высших сценарных курсов, если бы ее художественным руководителем не был бы Леонид Захарьевич Трауберг, режиссер всесоюзно известной кинотрилогии о Максиме. Но и тогда Толомуш, как свидетельствуют страницы его архива, вновь и вновь поднимал брошенную ему перчатку, отстаивая свое право художника на свободу выбора темы и ее решения, на творческий поиск и эксперимент:
«Что сказать по поводу статьи А.Липпе? В нашем маленьком фильме есть несколько планов с движения, которые ранее никто не снимал (тем более на цветную пленку и широкоэкранной камерой). Нам очень важны наши киноэксперименты, потому что мы хотим снимать картины новые во всех отношениях, не повторяя никого! Это вы должны были понимать…
Статья инспирирована, неглубокая и однобокая как дацзыбао. Во-первых, автор заявляет, что он о «Бумеранге» не стал бы и писать, не появись его духовного преемника «Это лошади». То есть он нас предостерегает от дальнейших ошибок.
Да будет вам известно, дорогой тов. А.Липпе, что сначала была сделана эта лента, «добрая к лошадям, жестокая к людям», а потом – «Бумеранг». Прежде всего – о тоне статьи, – продолжает наступать Толомуш, – статья очень грубая и крикливая. А когда собеседники громко ругаются, то они друг друга почти не слушают. Прежде чем судить о работе художника, автор статьи хоть на время написания статьи должен быть сам художником. Должен быть мудрым, терпеливым, и я должен видеть, что человек действительно старается помочь мне и себе, и остальным, но когда мы читаем в статье недоброжелательность и фельдфебельский окрик, то нам просто смешно и грустно. Смешно потому, что как будто человек только что проснулся, не читал те статьи, которые были написаны в самой газете «Советская Киргизия», в газете «Известия» и центральной кинопрессе.
Грустно потому, что автор статьи не знает, что создатели фильма, прежде чем снять фильм, изучили горы материалов по коневодству Киргизии, неделями сидели в министерстве, КирНИЖе и в других учреждениях, которые занимаются коневодством, могли бы написать кандидатскую на основе изучаемых материалов.
С детства мы жили в юртах. Сами ухаживали и выращивали лошадей. Все, что мы делали, – это из нашего детства, из истории нашего народа, из основных хороших традиций. А детство всегда истинно.
И очень грустно, когда человек не знает ни страну, ни предмет, о котором пишет, и берется с легкой рукой написать такую (неразборчиво. – Прим. Л.Д.) статью.
Газета печатается на мягкой бумаге, но если не быть осторожным, настолько острое оружие, что кого-то можно зарезать или порезаться самому.
И нам рано поздравлять себя с появлением хорошей кинопрессы.
Во всех последних выступлениях газеты «Советская Киргизия» я вижу тихо инспирированную заданность, творческую отсталость и недоброжелательность.
Кто хочет быть художником, у того сердце в руках открытое, и к нему нельзя допускать людей с миазмами злости, предвзятости, карьеризма».
И тут он приводит дошедшую до него фразу, прозвучавшую на заседании редколлегии: «Этот Океев поддерживал к/к «Оглянись, товарищ», и неизвестно, что он там наснимает…».
Знаменательная фраза! Для киностудии «Киргизфильм» тот год запомнился тем, что так называемыми «директивными органами» был запрещен и отправлен на полку рабочий вариант полнометражного документального фильма «Оглянись, товарищ», а его режиссер Юз Герштейн был уволен и вскоре навсегда покинул Киргизию. Фильма этого практически никто не видел, а впоследствии бесследно исчезла и злополучная рабочая копия. Даже в изданном в 1981 году справочнике киноведа Олега Артюхова «Кинематографисты Советской Киргизии», где старательно собраны справочные материалы даже о самых незаметных кинематографистах, Юз Герштейн даже не упомянут, хотя был одним из зачинателей киргизского документального кинематографа, снял многие десятки киножурналов, киноочерков и спецвыпусков, посвященных Киргизии, и по праву пользовался авторитетом всезнающего и многоопытнейшего профессионала.
В основу фильма, из-за которого был подвергнут остракизму столь заслуженный человек, были положены прямые синхроны самых разных людей, где они откровенно делились перед камерой своими воспоминаниями о событиях в Киргизии в период двадцатых-тридцатых годов.
Характерный факт. Писатель Ашим Джакыпбеков, работавший редактором одного из фрунзенских издательств, за интервью, данное для фильма «Оглянись, товарищ», был уволен с работы, и только благодаря поддержке Чингиза Айтматова, высоко ценившего Ашима Джакыпбекова как тонкого стилиста и знатока киргизского языка, «провинившемуся» прозаику удалось устроиться редактором киностудии «Киргизфильм».
Нет, как говорится, худа без добра. В результате этой полузабытой истории киностудия на многие годы обрела во главе сценарной коллегии эрудированного, с развитым чувством художественного вкуса человека, во многом способствовавшего появлению лучших картин «Киргизфильма».
Что же касается характера интервью, на которых был построен фильм Юза Герштейна, то колхозницы рассказывали о том, что из-за горсти пшеничного зерна, которую женщина утаивала во время принудительного сбора колосков, чтобы хоть чем-то накормить оставшихся дома голодных детей, ее арестовывали и сажали в тюрьму. Табунщики вспоминали о правительственном постановлении по развитию коневодства, согласно которому животноводы не имели права делать кумыс, дабы все кобылье молоко доставалось жеребенку. Но чиновник, готовивший это постановление, конечно же, не знал, что избыток свежего кобыльего молока, нагуленного на весеннем травостое, идет не на пользу жеребенку, малыши болеют, растут ослабленными, а то и вовсе погибают. Однако правительственные постановления подобного рода неукоснительно исполнялись, и во имя борьбы с расхитителями кобыльего молока во время летней страды на дорогах стояли «уполномоченные», которые ножами протыкали чаначи с кумысом, предназначенным для людей, занятых на сенокосе.
Толомуш, конечно, знал все это. И не мог не поддержать пафос фильма «Оглянись, товарищ», тем более что работал в качестве звукооператора над фильмом Юза Герштейна «Рассказ о Михаиле Фрунзе», над другими картинами, и высоко ценил этого незаурядного, своим умом жившего человека, так и не вписавшегося в систему. Но обо всем этом теперь можно только догадываться, исходя из направленности толомушевских заметок тех лет.
Во всяком случае общественная атмосфера, в которой Толомуш приступал к работе над «Небом нашего детства», была не столь уж и безоблачной, несмотря на все разговоры об «оттепели» шестидесятых годов. Не случайны поэтому и такие строки, которые тогда появились в его рабочей тетради:
«В заключение я хочу сказать, что мы сознательно выбрали себе путь художников кино и на нашем веку много услышали похвалы и ругани и умных, и глупых.
Несмотря ни на что, будем идти вперед, не боясь никаких преград.
Ибо художник – это сознательный мученик и разведчик своего народа.
Никогда мы не забываем слова нашего великого учителя Довженко, который говорил, что режиссер, который ставит фильм о народе, должен делать это с позиций большого государственного деятеля».
И то, что эти слова Александра Довженко были для Толомуша не просто громкой фразой, но руководством к действию, вскоре убедительно засвидетельствовал его первый же художественный фильм «Небо нашего детства».
(ВНИМАНИЕ! Здесь представлено НАЧАЛО книги)
Полный текст с иллюстрациями можно скачать здесь:
© Дядюченко Л.Б., 2005. Все права защищены
© Издательство "ЖЗЛК", 2005. Все права защищены
Произведение публикуется с письменного разрешения издательства
См. также статью "Отечественная история в жизнеописаниях ее творцов"
Количество просмотров: 8560 |


