Главная / Художественная проза, Крупная проза (повести, романы, сборники) / — в том числе по жанрам, Исторические / — в том числе по жанрам, Приключения, путешествия / Документальная и биографическая литература, Биографии, мемуары; очерки, интервью о жизни и творчестве
Не допускается тиражирование, воспроизведение текста или его фрагментов с целью коммерческого использования
Дата размещения на сайте: 5 марта 2012 года
Жемчужина в стене казармы
Роман-хроника
Свою книгу «Путешествие в Тянь-Шань» известный русский географ и общественный деятель Петр Петрович Семенов Тян-Шанский написал спустя полвека после завершения этого путешествия, которое ему так и не удалось повторить. Об удивительной истории создания этой книги, о замечательном выдающемся ученом и гуманисте, так много сделавшем для сближения русского и киргизского народов, и рассказывает роман Л.Дядюченко, основанный на самом широком использовании документального материала. Книга адресуется старшеклассникам.
Публикуется по книге: Дядюченко Л.Б. Жемчужина в стене казармы: Роман-хроника. – Фрунзе: Мектеп, 1986. – 220 с.: фотоил.
ББК 84 Р7 – 44
Д 99
Рецензент В.М.Плоских, доктор исторических наук
Художник В.Максимов
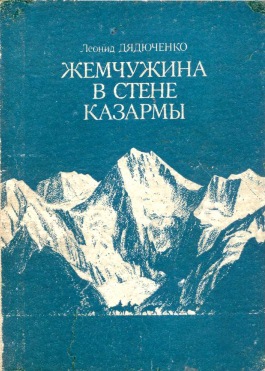
...В золотом тумане воспоминаний из далеких лет Вы мне теперь рисуетесь молодым человеком, рыцарем просвещения и науки, преследующим со всей горячностью патриота задачу отыскания молодых сил, годных на просветительную службу родине, но затерянных в провинциальных трущобах, на низших ступенях общественной лестницы... И когда теперь я припоминаю жизнь, окружавшую мою молодость, — эти шпицрутены, этих полковых командиров, которые, надсаживаясь, кричали на своих подчиненных: «Молчать!», и когда рядом с этим восстановляю в своей памяти эту омскую встречу с Вами, то мне кажется, будто я выковыриваю жемчужину из прокопченной солдатским табаком стены казармы...
Из писем Г. Потанина
 П.П.Семенов Тян-Шанский
П.П.Семенов Тян-Шанский
Главное — подняться со скамьи. Сделать шаг, другой, третий. Сначала — пусть и опираясь на палку, затем — почти на нее не налегая, а потом, когда нога разойдется, — даже сунув трость под мышку иди вовсе заложив ее за спину — почти так, как ходят со своими посохами библейской красоты старцы по крутым улочкам невообразимо далеких теперь кишлаков горного Зеравшана.
Теперь для него событие и обычная загородная прогулка. Тем более — в одиночестве. А побыть тут надо именно в одиночестве, которому могут невольно помешать даже близкие и дорогие люди. Конечно, ему известны поистине десятки способов в нужные для ума и сердца минуты оказаться в полном уединении или даже в других мирах, будь то спасительные от всех горестей детства овраги Точилка и Зеркала, или никем не нарушаемая тишина отцовской библиотеки с литературой на четырех, книга за книгой освоенных им языках, или страстные виденья Дюрера, или меланхолические миражи улочек и таверн голландских городков XVI— XVII столетий, или равные по своим загадкам внеземным мирам миры жесткокрылых и чешуекрылых, столь неведомые людям, вечно поспешающим в бесконечном круговороте своих повседневных тревог и забот — сегодня, однако, ему понадобилось быть именно здесь, в Царском Селе. Когда дети были маленькими и выезжать в деревню, в Гремячку, было сложно, на лето приезжали сюда, на дачу, и это были чуть ли не самые счастливые дни его жизни. А потом это все-таки Царское Село, где все связано не только с Пушкиным, но и с Лицеем, а, значит, и с Николенькой, единственным и любимым старшим братом, Николаем Петровичем Семеновым, которого вот уже два года как нет.
Да, уже два года. И никак не скажешь, что кончина эта преждевременна и неожиданна, что будто бы только вчера приехали они все вместе из Урусово с мамой и сестренкой Натали в Санкт-Петербург для поступления Николеньки в Царскосельский лицей, не скажешь, что, кажется, только вчера он, тогда еще Петенька Семенов, присутствовал на вступительных экзаменах своего старшего брата, на которых, конечно же, Николенька отвечал блистательно и лучше всех. Нет, все это было очень и очень давно, еще в дореформенную, еще в пушкинскую эпоху, и все-таки как быстро и невозвратно все пронеслось, как скоро и невосполнимо все кончилось.
Брат умер в 1904 году, на 81 году жизни. Он был старше Петра Петровича на 4 года, и сознание невольно вело теперь свои нехитрые и наивные подсчеты, словно век, отмеренный старшему брату, предопределяет что-то и в судьбе младшего, ну хотя бы примерно. Значит, может быть, еще несколько лет... Значит, надо успевать и успеть. Самое важное. Самое обязательное. Хотя кто теперь скажет, что будет самым важным завтра и послезавтра? Николай Петрович всю жизнь был занят чрезвычайно важными, чрезвычайно безотлагательными государственными делами. Он был обер-прокурором. Был сенатором. А люди, может быть, вспомнят его только по переводам Крымских сонетов Мицкевича, которые были высоко ценимы читающей публикой и были даже удостоены в 1886 году ежегодной пушкинской премии.
Какие парадоксы судьбы! В Вильне, во время следствия прокурор Семенов весьма близко сошелся с одним из осужденных на казнь польским повстанцем, благодаря которому и познакомился с поэзией Адама Мицкевича. Приговор прокурору удалось смягчить, а восхищение автором «Пана Тадеуша» сделало Николая Петровича не просто поклонником польского гения, но и очарованным переводчиком его стихотворений.
Постой!.. Какая тишь!.. Чу, журавлей полет!
Их не найдет зрачком и сокол беспощадный,
Я слышу, уж скользит и мотылек снует...
В такой тиши я слух так напрягаю жадный,
Что голос из Литвы, моей душе отрадный,
Я слышал бы... Пошел, никто нас не зовет!
Пустынны и тихи осенние аллеи царскосельских екатерининских парков. Шорох палой листвы, сумеречная гладь Большого пруда, мимолетный луч солнца на тронутой малахитом бронзе затерянных в парковых глубинах статуй, на медной листве столетних дубов. Безлюдна лестница Камероновои галереи. Редкий прохожий пройдет мимо рустованных колонн Грота, мимо замшелых скал Каменного острова. Тем слышней в этом безлюдье некогда отзвучавшие здесь голоса, шепот, признание, то самое-самое сокровенное, что человек подчас доверяет только себе, своему дневнику или тем заметкам, которые, подобно коротким, разрозненным записям дочери, Ольги Петровны Семеновой, появились однажды неизвестно для кого и для чего.
«При взгляде на здешнее ясное небо, — слышится в шорохе листвы ее задумчивый голос, — такое горькое сожаление проснулось во мне о прошлом... Сколько раз, под этими самыми деревьями, та, прежняя «я» в облике пятнадцатилетней девочки, вырвавшейся «на волю» из городских стен, трепеща от чистого, полумистического счастья, вызванного в душе теплом и ароматом старого сада, невольно заражала своим счастьем окружающих милых людей. «Светленьким явлением» звал меня в те годы отец. Сознательной любви к людям, разумеется, не было. Людское горе не всегда было понятно. Но не больше ли давала другим та бессознательная, заразительная радость жизни, которою было переполнено все существо, нежели самое сознательное стремление облегчить чужое горе, утешить, помочь... Разве можно на самом деле «утешить» человека, помочь настоящему горю?..»
Петр Петрович медленно поднялся со скамьи и, шурша жухлыми наметами листвы, двинулся в глубину парка — невысокий старец в черном, наглухо застегнутом пальто и цилиндре: блеск пенсне, белый снег бороды, борода упрямо выставлена вперед, а руки с тростью сведены за спиной... Что ж, вот она и пришла, пора подведения итогов. Значит, надо подводить.
***
Стучит пишущая машинка. Она стучит неторопливо, с паузами, печатающий явно обдумывает каждую фразу, отстраненно поглядывая и на заваленный книгами рабочий стол с двумя фотографиями по обе стороны от чернильного прибора, и на высокие книжные шкафы, за стеклами которых тускло поблескивает золотое тиснение научных фолиантов, и на висящие на стенах портреты Пржевальского и Козлова, Потанина и Миклухи-Маклая, и на выставленные то там, то здесь буддийские божества, монгольские маски злых духов, прочие редкости, напоминающие об экспедициях в самые разные уголки Азиатского материка.
Фотографии, стоящие по обе стороны от чернильного прибора, заслуживают, однако, особого внимания. На одной из них — за простым столом, вынесенным «на воздух» перед крыльцом деревянного дома с большими, в светлых наличниках окнами, сидят двое мужчин. Тот, что моложе — лет сорока, — в серой кепке, в сером свободного покроя пиджаке, у него небольшая бородка, усы. Он весел, у него прекрасное настроение, несомненно, вызванное именно этой, переживаемой им минутой. Другой — глубокий, согбенный годами и непритязательно одетый старик с высоким чистым лбом и белой, «профессорской» бородой. У него усталое лицо, благожелательно-грустная улыбка. На столе виднеется несколько книг, оба собеседника глядят на зрителя, фотограф явно попросил их смотреть в объектив.
Судя по всему, фотография сделана любителем. Куда более представителен и даже импозантен этот же самый старец, снятый в модном ателье на Невском проспекте, 24. Роскошное, резное, черного дерева кресло, черный сюртук, белоснежные манжеты, белый лист бумаги.в больших морщинистых руках. Лицо крупное, выразительное, в обрамлении словно бы сияющей седины, а близорукий прищур глаз искрится мудростью и доброй усмешкой. Слева — дарственная надпись. Мелкий, ровный, выверенный бисер. Это почерк человека, которому приходится много писать. Почерк, который нам следует запомнить.
«Дорогому другу всей нашей семьи и деятельнейшему сотруднику последнего 12-летия моей общественной и научной деятельности Андрею Андреевичу Достоевскому. П. Семенов».
Есть время вглядеться и в лицо печатающего на машинке. Что-то знакомое в его облике, но мы скорее догадываемся, чем находим прямое сходство с тем человеком, что изображен на первой фотографии — человеком в серой кепке и в сером пиджаке. Впрочем, у нас еще будет возможность поближе с ним познакомиться, с секретарем Географического общества Андреем Андреевичем Достоевским. А пока — мы слышим его глуховатый голос, видим текст, возникающий слово за словом на валике старого «ундервуда»: «Судьба редко балует человечество, посылая ему то в одном, то в другом уголке земли таких людей, которые силою своего духа объединяют около себя тесные ряды мирных борцов за науку, культуру и просвещение. Таким редким человеком и был Петр Петрович... И хочется точнее уяснить себе, в чем же, собственно, заключалась моральная сила этого человека, которой он так неудержимо привлекал к себе всех людей, его знавших...»
***
...Цокот копыт, постукивание колес по мокрой брусчатке, нахохлившаяся фигура ушедшего в свои думы извозчика. Проплыли поодаль Ростральные колонны, потянулась Университетская набережная, пошли проезды и линии Васильевского острова, кажется, застывшие в своей неизменности чуть ли не с петровских, екатерининских времен. Гранит, чугун, кованое железо оград и ворот, вереницы львиных морд и всевозможных гипсовых масок, пышной геральдики, изощренных сплетений из щитов, шлемов, мечей, секир, копий и венков над бескбнечными рядами казарменного вида окон северной Пальмиры. А над всем этим — в черной гармошке полуоткинутого верха — снежно-белый ворох бороды и пронзительно-щемящий блеск пенсне.
«Быть может, когда-нибудь впоследствии, — вновь возникают строки из разрозненных записей Ольги Петровны Семеновой, — пройдя случайно через чье-нибудь яркое сознание, — мои бледные образы вспыхнут и оживут хоть на мгновение? Ради этого «быть может», ради небольшой отсрочки забвения и непроглядной тени — решаюсь взяться за перо...»
***
Ясное, светящееся умом, улыбкой и веселым задором лицо молодой обаятельной женщины. Настолько живо и непосредственно выражение ее лица, что впору забыть, что это — всего лишь фотография, кусок особым образом обработанной фотобумаги, наклеенной на тисненый, весь в гербах и медалях, картон. Но это — фотография. Рука, державшая портрет так, чтобы удобнее было разглядывать, устала от напряжения, и Петр Петрович откладывает фотографию дочери в сторону. Теперь, откинувшись назад, он и вовсе тонет в углу большого, мягкого дивана, в густом сумраке, скрадывающем дальние стены и углы гостиной. В комнате никого, фитиль лампы прикручен, а витражный экран перед камином едва мерцает. И потому вместо картин, которыми увешаны все стены, видны лишь темные прямоугольники и овалы, обрамленные сумрачной бронзой багетов. Петр Петрович тяжело поднимается, выпускает фитиль, ему хочется рассмотреть большую, в овальной раме, картину, написанную в приглушенных рембрандтовских тонах и представляющую собой двойной портрет — девочки и мальчика. Но света явно недостаточно. Петр Петрович нагибается, достает из-под письменного стола рефлектор и направляет луч света на полотно. Он долго, словно видит впервые, разглядывает этот с незаурядным мастерством написанный холст, и Андрей Андреевич, вошедший в эту минуту в гостиную, чуть было не повернул назад. Но Петр Петрович его уже заметил.
— Куда вы, Андрей Андреевич? Проходите.
— Я не вовремя?..
— Вот разглядываю Иохана Келера, основоположника живописи Эстляндии, — не ответив, а словно продолжая свой рассказ, произнес Петр Петрович, — а мы звали его Иваном Петровичем. Меня с ним познакомил брат Николенька, наш покойный ныне Николай Петрович Семенов. А все друзья моего брата становились друзьями моими, как тот же Николай Яковлевич Данилевский. На этом парном портрете Келер изобразил Оленьку и Андрюшу. И еще он написал Славу, когда мальчику было пятнадцать лет. Он очень любил Ростислава, да и кто мог его не любить? Давно нет Славы, не стало Оленьки, а я вот — живу. Однажды Оленька написала: «Золотое полудетство, как скоро преходящ твой рай, как спешно под влиянием жизни мутится твоя проникнутая теплом и светом чистая глубина...»
Он прошел вдоль стены, не выпуская рефлектора из рук, вновь остановился.
— Я все время слышу ее голос. Она удивительно, особенно писала, я так никогда не мог. Но оценить я могу. Возьмите ее картины. Ее называли пейзажисткой, а ведь ее интересовал не пейзаж, нет — настроение!
Луч рефлектора скользнул по стене, выхватывая из сумрака висящие между окон один над другим скромные пейзажи в простых рамках — весенний лес в пятнах снега, солнечная опушка с березой, зеленый ельник под облачным небом...
— Но это масло, а вот... вы не видели ее... такая простенькая, но очень хорошенькая акварелька... Где-то здесь, я ее только что смотрел...
Он вдруг засуетился, отложил рефлектор, начал перебирать громоздящиеся на письменном столе папки, роняя, рассыпая по полу какие-то бумаги, враз превратившись в дряхлого, с трясущимися руками старика. Но вот акварели найдены, а минутная слабость преодолена.
— Сидите, сидите, — предупреждает он попытку Андрея Андреевича встать, расставляя картины на полу так, чтобы на них падал свет, — узнаете? Наш дом в Гремячке, наша березовая аллея, а вот — та самая акварель... Ну что, казалось бы, в ней?..
В самом деле, очень незамысловатый сюжет: зреющая рожь, кусты по краям поля, белый диск солнца, садящийся в дымку заката. Но в такой чуткой, нежной тональности все сделано, так тонки и созвучны градации света, так точно передано то особое состояние воздуха, всей природы, а главное — человеческой души, провожающей этот отошедший день...
Петр Петрович поднимает выпавший из папки листок бумаги, вглядывается в стремительно набросанные строки.
— А-а, это Оленька. Вы же знаете, она записала в деревнях массу всяческих песен, сказок, обрядов...
Разбирая, он начинает читать:
Кормилец мой батюшка,
Родимая моя матушка,
Спасибо вам за хлеб, за соль,
Отгостила у вас,
отпраздновала
Последний денечек,
Последний часочек.
Бледно тлеет белое солнце, опускающееся в пепельно-лиловую дымку. Серым пеплом отливают застывшие волны ржи и пятна кустов по окраинам поля. Петр Петрович смолкает, прячет в папку листок.
— Минутку, — сдавленно говорит он, вдруг повернувшись к дверям, — только взгляну, как там Лиза... Ради бога, Андрей Андреевич, не уходите...
Андрей Андреевич остается один. Он смотрит вслед Петру Петровичу и, когда тот исчезает за дверьми, сочувственно крякает. Петра Петровича нет долго, Андрей Андреевич встает с кресла, поднимает с пола расставленные вдоль стены акварели, кладет их на ломберный столик. Конечно, он не впервые в этой гостиной, конечно, он уже не раз видел и эти фотографии на стенах, и картины, и старинные, прошлого века, дагерротипы в простеньких рамках, и буддийские статуэтки, и чучела каких-то диковинных птиц, привезенных то ли Козловым, то ли Потаниным из далеких экспедиций и подаренных Петру Петровичу, и рабочий стол, до того заваленный папками, книгами, рукописями, что за ним уже невозможно работать, и скромные портретики Бетховена и Шекспира посреди этих бумажных развалов, и скромный, в серебряной рамочке портретик Пушкина на стене, и стоящая на низком книжном шкафчике фотография Петра Ильича Чайковского с дарственной надписью Елизавете Андреевне — да, все это Андрей Андреевич видел не раз и не два, и все-таки он невольно вновь и вновь вглядывается в свидетельства жизни и пристрастий хозяев этой необыкновенной гостиной, узнавая тем самым и их самих, их корни и ветви, их окружение, ближнее и дальнее.
Кто на этих старинных литографиях и дагерротипах? Вот этот отставной секунд-майор, бравый ветеран суворовских походов и участник 37 сражений — дед, Николай Петрович Семенов, потомственный рязанский дворянин. А эта почтенная старушка в пышном капоре — бабушка Мария Петровна, урожденная Бунина, в чьем родовом имении Урусово и родился в ночь с 1 на 2 января 1827 года Петр Петрович. Бунины были в родстве с жившим неподалеку поэтом Василием Андреевичем Жуковским. Сестра Марии Петровны — Анна Петровна Бунина была известна как поэтесса, переводчица и иначе не называлась, как «русская Сафо». Вот она, одна из ее переводных книг, хранящаяся в доме Петра Петровича наряду с самыми дорогими реликвиями его семьи и его жизни: «Нравственные философические беседы. Из сочинений доктора Блера. Перевела с английского Анна Бунина». «Любезнейшему моему внуку и крестнику Петрушеньке Семенову в чаянии достословной возмужалости с смертнаго и страдальческаго одра любящей его со всею нежностию от трудившейся в переводе. 1829го года Май 14 дня Москва».
А эта очаровательная молодая женщина — мать, Александра Петровна, урожденная Бланк, дочь, внучка и правнучка известных московских архитекторов — Бланков. Во время московского пожара Бланки бежали в Липецкий уезд, в свою деревню, да так и остались. Словно специально для того, чтобы спустя годы, по дороге в Пятигорск, в их имении смог остановиться на день-два отдыха скромный герой Отечественной войны Петр Николаевич Семенов. Тогда он и познакомился со своей будущей женой. Он был болен, его везли на лечение, и шансов на выздоровление почти не было. Но он выздоровел. И на обратном пути — попросил руки.
Вот этот молодой офицер в красном мундире лейб-гвардии Измайловского полка и есть Петр Николаевич Семенов, отец Петра Петровича. Вольноопределяющийся, подпрапорщик, он в битве под Бородино, когда все офицеры были перебиты, взял на себя командование ротой, был награжден золотой шпагой — «За храбрость». Сражался под Кульмом. Дошел до Парижа. Был любимцем товарищей, счастливым мужем и отцом. Увлекался литературой, искусством, тетка Анна Петровна ввела его в «Петербургский Парнас», в дома Державина, Дмитриева и Шишкова. Был деятельным участником тайных кружков передового офицерства, ничуть, впрочем, не подозревая, что для многих участников этих кружков дело кончится Сенатской площадью, эшафотом и Сибирью.
Уйдя в отставку, стал хозяйствовать, стараясь поставить дело на европейский лад. Будучи человеком крайне отзывчивым, вызывал улыбки соседей своей всегдашней склонностью к поступкам, известным в Евангелии под названием «семи подвигов милосердия». Это борьба с пожарами и шайками грабителей, с вымогательством и воровством среди чиновников и полицейских, с голодом и нищетой, с пьянством и болезнями. Он и умер, пытаясь спасти своего слугу, заболевшего брюшняком. Лечил, выхаживал и слег сам, оставив молодую вдову и трех детей — дочь Наталью, сыновей Николая и Петра.
А на этом небольшом, в темной рамке, овальном дагерротипе — сам Петр Петрович. Худощавое, энергичное лицо, большой лоб, выразительный взгляд — молодость, ум, смелость. Но глаза — пронзительно холодны и словно обожжены болью. Снимок сделан в 1853 году, а к этому времени Петру Петровичу пришлось пережить многое И раннее сиротство. И полное горькой неустроенности и одиночества детство. И кончину матери, так и не излечившейся от постигшего ее после неожиданной смерти мужа нервного расстройства. И свой нервный приступ, какую-то внезапную тяжелейшую болезнь, какую-то падучую, которая едва не свела его в могилу, после того как лучший петербургский врач Шапулинский признал у юной жены Петра Петровича — Веры Александровны Кареевой — скоротечную чахотку.
Они познакомились в один из приездов Петра Петровича в деревню к дядюшке, где после окончания курса в Петербургском университете Петр Петрович проводил лето. Познакомились на вечеринке у соседей, и с тех пор Петр Петрович стал частенько бывать в Гремячке, небольшой деревушке, что в 12-ти верстах от дядюшкиных Подосиновок. Круглая сирота, Вера воспитывалась у своей тетки, недавно овдовевшей Екатерины Михайловны Кареевой, и день венчания для обоих молодых людей был первым, после долгой череды . горестей и утрат, поистине счастливым днем.
Они прожили вместе немногим больше года. Они только что переехали из Гремячки в Петербург, она только что родила ему сына, первенца, маленького Дмитрия, они даже не успели отпраздновать крестины, ждали, когда Вера окрепнет после родов и когда приедет Екатерина Михайловна. Но самочувствие Веры все никак не улучшалось, и когда Петр Петрович пригласил опытнейшего специалиста по болезням дыхательных органов, тот прочел смертный приговор. Сомневаться в диагнозе врача не приходилось. От скоротечной чахотки умерла старшая сестра Веры, мать Веры, несколько маминых братьев и сестер.
На следующее утро Петр Петрович не смог подняться с постели. Это был какой-то нервный паралич: он даже не мог открыть рта, намертво сведенные челюсти никто не мог раздвинуть даже ложкой, лезвием ножа. Какая-то невероятная сила заставляла Петра Петровича волчком вертеться на одном месте, при полной памяти и до полного изнеможения. Так продолжалось четыре недели. Хотел покончить с собой, но бритва была в кабинете, а кабинет заперли на ключ. Выброситься из окна — но с него не спускали глаз, да и жили они на втором этаже — только скандал. Вызвали врача Марголиуса, друга дядюшки Василия Николаевича; врач знал Петра Петровича еще с детства. Марголиус принялся лечить своими, домашними, средствами, хотя петербургская знаменитость Здекауэр отмерил больному жизни еще только на трое суток.
Петр Петрович выжил. Но полного выздоровления не было, и тогда Марголиус решил выбивать клин клином: Петра Петровича потрясла смертельная угроза жизни Веры Александровны, значит, он должен сражаться за ее жизнь, он должен ехать с ней на целебные воды, к лучшим европейским врачам, он должен немедля отправиться в Министерство иностранных дел, чтобы срочно выправить два паспорта за границу, себе и Вере.
Расчет врача оказался точен. Ради себя Петр Петрович, может быть, и не выкарабкался бы, ради жизни любимого человека — встал на ноги. Он поднялся, он спешно занялся паспортами и прочими приготовлениями, ему всячески помогли во всем и дядья, и брат, и товарищи брата, но когда паспорта были готовы, а сборы закончены — все это стало ни к чему: Вера умерла. И вновь боролся за жизнь Петра Петровича старинный друг Семеновых врач Марголиус: как ни к чему? Надо ехать, раз уж ласпорт выправлен; надо жить дальше, хотя бы ради сына, а для этого лучше всего сменить обстановку, лечиться, учиться, работать, взвалить на себя самое трудное, самое необычное и дерзкое!
Примерно в те времена появилась и эта картина — большой поясной портрет, написанный в яркой, взволнованно-романтической манере. Смуглое красивое лицо, темные волосы, тонкие усы и бородка, бордовый галстук. И сумрачный пейзаж за спиной, темно-багровое, тревожное небо, тусклая полоска свинцовой воды, чуть поодаль и позади, как знак беды, или уже пережитой, или еще предстоящей. Да уж, Наташа все знала о жизни брата — вдвоем бедствовали. Николай раньше оторвался от терпящего бедствие дома, и его спасительной гаванью был Лицей. А у Наташи с Петей такой гавани не было, и они еще пять лет провели в деревне, подчас голодая и замерзая в полузаброшенном господском доме. Она очень любила живопись, с блеском закончила курс Екатерининского института, и кто знает, что получилось бы из этой незаурядной натуры, если б не тогдашняя участь всех женщин, в том числе и самых выдающихся, если б не ее счастливый брак с удивительно милым и прекрасным человеком — профессором русской словесности Гельсингфорского университета — Яковом Карловичем Гротом. Он приехал в Петербург на рождество к своему брату, Константину Карловичу Гроту, казначею Русского географического общества, с которым Петр Петрович жил по соседству и был хорошо знаком. Друзья брата — мои друзья. В Гельсингфорс Грот уехал уже с женой.
Андрей Андреевич шагнул назад, перевел взгляд в сторону, где висел еще один портрет Петра Петровича, исполненный эдакой добротной рембрандтовой кистью, изобразившей в сдержанных, суровых тонах столь же сурово взирающего с холста бородатого, лет тридцати пяти мужчину в высокой меховой шапке. Рядом — явно принадлежащий той же кисти портрет молодой женщины. Скорее даже юной: слишком уж хрупкой, нежной, если не сказать ранимой, она выглядела. Она была написана в профиль и смотрела куда-то вдаль, за левый край полотна, словно оберегая себя от любого возможного встречного или постороннего взгляда.
Андрей Андреевич оглянулся. Рядом с ним стоял и смотрел на портрет Петр Петрович.
— Это Елизавета Андреевна... Лизаньке здесь восемнадцать лет. Ну, а мне было за тридцать, и я рядом с ней считал себя 'довольно старым и мрачным субъектом. Да, собственно, я поначалу и не замечал ее, то есть, я, конечно, ее любил, но она была для меня лишь милой девочкой, дочерью глубоко мною уважаемого Андрея Парфеновича Заблоцкого-Десятовского, думающего государственного деятеля и честнейшего человека. Он требовал освобождения крестьян с землей еще за двадцать лет до манифеста. Мы так славно понимали друг друга, работая в Редакционных комиссиях по подготовке крестьянской реформы, воюя по каждому пункту с оголтелыми крепостниками. Это был виднейший в России экономист, и если я стал статистиком, то во многом этим увлечением я обязан ему, Андрею Парфеновичу. Тогда я был членом-экспертом и заведующим делами Редакционных комиссий, так что все бумаги шли через меня. Работать приходилось днем и ночью, и я заявлялся к нему домой, сюда, в этот дом, в эту гостиную в любое время суток, как того требовали обстоятельства. Мне в голову не приходило, что это мой будущий тесть, что я буду жить в этом доме, что я еще способен любить, быть любимым... я думать об этом не мог! А Келер писал нас в тысяча восемьсот шестьдесят втором году. Мы были уже год как женаты. Удивительно милый, талантливый человек. Ничуть не странно, что в Ревеле считают его своим Рембрандтом. Такое счастье, что он писал Лизу, наших детей, что он бывал, работал здесь, в этой комнате... Мы были очень хорошо знакомы. Это сейчас его знают, а тогда... Андрей Андреевич, это было целую жизнь назад! Олину жизнь...
Он замолчал, сделал два шага вдоль увешанной картинами стены и шторы, за которой угадывался темный провал окна и зимнего вечера за окном, но тут же повернулся, с поспешной живостью заговорил, словно испугавшись паузы, молчания, а значит, и новых возвращений к думам о дочери:
— А ведь согласитесь, Андрей Андреевич, я чудовищно старый человек. Когда я был принят Гумбольдтом, я вдруг поймал себя на мысли — и это при всем благоговении к «отцу географии»: «Господи, какой старец!» И вот— сам. Теперь эпоха Гумбольдта кажется глубокой древностью, а ведь я — свидетель ее! Я свидетель четырех царствований, Андрей Андреевич! Я видел Пушкина. Пушкина! Я вам не рассказывал? Мой дядя был цензором. Кстати, в литературных кругах Василия Николаевича весьма уважали, да-да. Когда он дал обед по случаю оставления службы — пришли Карл Брюллов, Кукольник, Пушкин пришел! Мать очень любила стихи Александра Сергеевича, и дядя ее пригласил. Я был в невыразимом восторге — придет Пушкин!
— Когда ж это было, Петр Петрович?
— В тридцать шестом. Мы тогда приезжали из деревни и некоторое время жили в Петербурге в связи с поступлением Николеньки в Лицей. Тогда у матери еще были периоды просветления, и она принимала приглашения родственников. Но вскоре деньги кончились, болезнь усилилась, и мы вернулись. В полную безнадежность... А мне тогда было девять лет. Учтите, уже тогда я знал у Пушкина все, что попадало в наш дом. То есть, практически все. Я и тогда мог декламировать его часами, не зная, где ошибусь. Конечно, на обед мы, дети, не были допущены, но перед обедом я видел его так, как вижу вас!
Он слабо улыбнулся, то ли еще и сейчас не веря в реальность этого, столь теперь далекого и невероятно счастливого обстоятельства своей жизни, то ли невольно, но все сильней и отзывчивей поддаваясь течению памяти, легко уносящей его в тот год, в ту гостиную, к той полуприкрытой двери, где в узком проеме света виднелась фигура человека, который читал стихи:
Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне...
Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?
Петр Петрович обрывает чтение, смотрит на Андрея Андреевича и, качнув головой, и, как бы возвращая себя этим жестом к будничным, сиюминутным заботам из долгого, хотя и незримого отсутствия, идет к письменному столу.
— Андрей Андреевич, — говорит он, с трудом усаживаясь в кресло, — вот, в связи с Камчатской экспедицией... Ждать денег от правительства? Сейчас? Бессмысленно. Сейчас правительству не до экспедиций, не до науки... А что, если обратиться к нашим толстосумам? Ну, скажем, к Рябушинскому? Увлечь его, внести в почетный список, дать об этом в газеты, в журналы, глядишь, и наш Комаров будет на Камчатке, а? Удивительно милый, талантливый человек, этот Комаров. Что, если попробовать ради этого, а?
***
— Талый снег. Мокрые, черные стволы лип. Черное кружево ветвей в сером петербургском небе, сквозь которые проглядывают зеленый купол и белые стены церкви Смоленской божьей матери. Звучит отдаленный вороний грай. Но он не нарушает, он лишь подчеркивает кладбищенскую тишину, как подчеркивают безлюдье и отрешенность от городской толчеи редкие фигурки посетителей, то там, то здесь медленно бредущие мимо крестов, мраморных изваяний, грузных каменных склепов.
«Давно уж меня тревожит, — словно наяву возникает в стылом сыром воздухе все тот же и теперь уже знакомый женский голос, — желание передать другим свою частицу жизни. Желание это доходит иногда до красного каления, но часто-часто задумываешься над незначительностью, полной пустотой своего существования и останавливаешься. Что в том, что временами кажется, будто что-то горит внутри ярко и горячо? Ведь рядом с этим таким безотрадным, тяжким камнем гнетут сознание долгие годы бесполезного существования. Правда, судьба трепала меня довольно беспощадно, но кому из тех, кто мало-мальски побольше, самое беспощадное горе связывало руки?»
У простой оградки, у белого мраморного креста стояли Петр Петрович и Елизавета Андреевна Семеновы. Да, это очень пожилые люди, они растеряны и надломлены. Петр Петрович все пытается как-то поддержать, успокоить жену, все пытается увести ее от оградки, но Елизавета Андреевна не уходит; на это тоже нужны силы, чтобы уйти...
— Лиза... Лиза... Ну, что же теперь... Лиза...
Могила недавняя, она вся еще тонет в цветах и венках, хотя уже и увядших, обожженных морозом, присыпанных снегом.
— Лиза... Милая... Мы должны думать о хорошем... Какое счастье, что у нас была такая дочь...
Высокий, прекрасный лоб, светящийся нимб седины и... полная беззащитность близоруких глаз, вдруг лишившихся прозрачной брони болтающегося на шнуре пенсне. Он хлопает рукой по отворотам распахнутого пальто, по сюртуку, пока наконец пенсне вновь не водружается на переносицу. Теперь можно идти. Они поворачиваются и медленно, осторожно нащупывая узкую дорожку, идут мимо мокрых стволов, мокрого черного камня, мимо стен и забранных решеткой окон. Глухо звучит в вязком воздухе вечерний звон окрестных церквей, всегда, казалось бы, дававший надежду и примирение, но не сегодня.
***
Андрей Андреевич вошел в свой кабинет и увидел, что у него гости — сестры Шнейдер. Александра Петровна и Варвара Петровна. Строгие темные платья, оживленные разве что скупой оторочкой кружевного воротничка, бледные, чуть аскетические лица вечных тружениц библиотек и художественной мастерской, серьезные, исполненные мысли и постоянной нравственной работы глаза...
Сидя у его стола, Варвара Петровна листала, разглядывала какую-то книгу; Александра Петровна смотрела в окно. Андрей Андреевич стремительно подошел к столу, положил принесенные с собой папки, улыбнувшись, поцеловал с улыбкой же протянутую ему одну руку, затем — другую.
— Рад видеть вас, Александра Петровна! Скоро ли мы увидим и ваши новые полотна?
— Варвара Петровна? Какими судьбами? Скоро ли мы прочтем ваши новые эссе о творчестве Александры Петровны?
— Вы все издеваетесь, Андрей Андреевич? Вот мы пожалуемся Петру Петровичу, а он нас в обиду не даст.
— Разумеется, ведь вы Петровны. Вы знаете, с тех пор, как я стал работать с Петром Петровичем, у меня подчас возникает странное ощущение, что в мире есть только Петровны и Петровичи... — Достоевский коротко рассмеялся.
— Что ж, мне тоже кое-что забавно, — не осталась в долгу и Варвара Петровна. — Такая сценка: «Андрей Андреевич», — говорит Петр Петрович. «Слушаю вас, Петр Петрович», — говорит Андрей Андреевич.
И Варвара Петровна, в свою очередь, тихо рассмеялась.
— Да, забавно, — согласился Андрей Андреевич, — тем более, что есть еще одна комбинация этих имен...
— Андрей Петрович? — улыбнулась Шнейдер. — Кстати, почему его нигде не видно, где он?
— Он с Елизаветой Андреевной, — сказал Андрей Андреевич.
Улыбки тотчас погасли, лица помрачнели, словно никаких мимолетных и легких шуток, только что отзвучавших, вовсе не было.
— Какими судьбами? — повторил Андрей Андреевич.— Чем-нибудь могу быть полезен?
— Все теми же, Андрей Андреевич, — вздохнула Александра Петровна. — Конечно, проще было бы встретиться на Восьмой линии, но мы с Варей избегаем там часто бывать, вы же понимаете?
— Признаться, не очень.
— Нас видели всегда только втроем. Мы всегда были вместе, Ольга, Варя и я. И вдруг — мы есть, а Ольги нет. Да это всякий раз — напоминание, напоминание... Просто нет сил.
— А как им объяснить ваше исчезновение?
— Нет, мы бываем... Господи... Но каждый раз надо собраться с духом... А мне действительно надо у них быть. Я ведь обещала Петру Петровичу скопировать факсимиле всех подписанных картин, всех его «малых голландцев». Для каталога. А их... я даже не знаю сколько!
— Так тем более, Александра Петровна!
— Да-да, конечно. Вы когда были у них?
— Сегодня.
— Как Елизавета Андреевна?
— Не выходит.
— А Петр Петрович?
— Только об Оленьке. Говорит, говорит.
— Не работает?
— Нет. Во всяком случае, я не видел.
— Когда умер Слава, — сказала Варвара Петровна, — в пятнадцать лет, такие способности, музыка, математика— смерть сына просто подкосила их. Петр Петрович спасся работой. Он сутками не вставал из-за стола. Работа, работа... И вот теперь — Оля.
— Ты забыла, как на него подействовала недавняя кончина брата, Николая Петровича... Насколько он был старше? Лет на пять?
— На четыре, он с двадцать третьего, — уточнил Андрей Андреевич. — Кстати, через два месяца у Петра Петровича — юбилей. Даже двойной.
— Восемьдесят лет? — спросила Варвара Петровна. — А что еще?
— Полвека со дня путешествия на Тянь-Шань.
— О, этот юбилей для него главный, — сказала Александра Петровна. — Будете отмечать? Насколько это сейчас возможно?
— Но ведь это касается не только Петра Петровича, это праздник всего Географического общества, многих, многих людей! Событие научной, культурной жизни!..
— Я понимаю... И все-таки... Я очень боюсь за него... С Ольгой он связывал особые надежды. Собственно, потому мы и здесь, — сказала Варвара Петровна. — Вы очень заняты? Какие-то у вас папки, какие-то дела...
— Есть немного, — Андрей Андреевич тронул папки, чуть улыбнулся в усы, — вы же знаете, мы строим в Демидовой переулке новый дом для нашего Общества, «храмину», как говорит Петр Петрович. А времена... Да, времена... Словом, работа встает, нет материалов, денег, да и откуда быть, мы вообще строим без средств. Только на обаянии!
— Петра Петровича?
— Не моего же, Александра Петровна! Петр Петрович надевает свой парадный мундир члена Государственного Совета и едет к нужному министру. Или ловит министра за пуговицу перед заседанием Совета. Министр отнекивается, дескать, ничего сделать не может, и тогда, обаятельно улыбаясь, Петр Петрович спрашивает: «Ну хорошо. А как вас можно обойти?»
— Хорошо! — засмеялась Александра Петровна. — Это похоже. И что же министр?
— А что министр! Лишь бы только отделаться от Петра Петровича! Он сам подсказывает ход, как можно его, министра, обойти. Вы слышали что-нибудь о фокусе Петра Петровича с нашим строительством?
— Ну, я знаю, что Географическое общество строит себе новое здание, а вот каким образом?..
— А вот таким. У Общества есть неприкосновенный капитал. Высочайше дарованный еще при учреждении. Тратить его нельзя. Тратить можно лишь проценты, которые идут с этого капитала.
— Андрей Андреевич, я все равно ничего...
— Минуточку! Тратить можно лишь проценты с капитала. Так вот, Петр Петрович упросил-таки министра финансов, тот разрешил истратить основной капитал. С тем условием, что капитал будет постепенно восстановлен теми процентами, которые с него идут. Каково?
— Прекрасно! — сказала Варвара Петровна. — Все ясно.
— Ничего не понять, — рассмеялась Александра Петровна.
— Ну, не вам одним. В министерстве финансов тоже, наверное, не всем ясно, как это так — капитала уже нет, а пособие с него идет. А Петр Петрович смеется, дескать, как бог сотворил мир из ничего, так и он, из ничего — храмину!.. А как он добывал деньги для экспедиций Пржевальского? А для экспедиций Козлова? А как он добывает деньги сейчас, для экспедиции на Камчатку? А как он осуществил свое путешествие на Тянь-Шань?
Он открыл одну из папок, зашелестел бумагами и тут только спохватился.
— М-да... Вы пришли ко мне по делу, а я вас совсем замучил. Слушаю вас, Варвара Петровна, и очень внимательно.
— Нет-нет, почему же?— запротестовала Варвара Петровна.
— Мне это ничуть не менее интересно, чем вам. Андрей Андреевич, признайтесь, вы хотите что-нибудь
написать? О Петре Петровиче?
— Прежде всего уяснить. Хотя бы для себя. А написать... Знаете, иногда в самом деле жалеешь, что напрочь лишен способностей своего знаменитого дядюшки. Если б его муза могла бы мне помочь...
— Ну, с помощью музы Федора Михайловича Достоевского у вас вряд ли что бы получилось,-— улыбнулась Александра Петровна. Тут она вытащила из портфеля блокнот, вооружилась карандашом и, устроившись поудобнее, принялась что-то легко, словно машинально, набрасывать, продолжая говорить. — Уж больно Петр Петрович не ее герой. Где уж тут сумеречные потемки загадочной русской души! Совсем недавно он запальчиво уверял Елизавету Андреевну в том, что можно и в старости быть, оставаться счастливым человеком. Да что старость! Он и в смерти старается видеть что-то оптимистическое! Когда умер наш дядя, профессор Иван Павлович Минаев, и мы с Варей остались совсем одни, Петр Петрович взял на себя устройство всех наших дел... Тогда он прислал нам письмо. Цитату хотите?.. «О прошлом не тоскуйте и не горюйте. Смотрите на будущее так же светло, как на свои прекрасные детские воспоминания. Пусть мечты, к которым вы будете стремиться, обнаружат вблизи и тени, присущие всякой реальности, — что с того? Пусть светлые идеалы, к которым направлены ваши тропки, останутся всегда лучезарными. В таком случае вы не можете, не должны быть несчастливы!»
— Формула счастья? — с неясной улыбкой, то ли вопросительно, то ли утвердительно сказал Андрей Андреевич.
— Убеждение! — ответила Александра Петровна, продолжая рисовать. — Наверное, он много размышлял об этом. Он и в альбоме нам написал...
— Сестры Шнейдер вели альбом? — живо перебил ее Андрей Андреевич. — Художница... Критикесса... две образованнейшие, передовые женщины своего времени уподобились скучающим провинциальным девам?..
— Уподобились, уподобились, — рассмеялась Варвара Петровна, — и ничуть не жалеем. Мы задавали вопросы, и нам в альбом писали ответы. И какие!
— И какие же? Ваш любимый герой?
— Конечно. Петр Петрович ответил: «Всякий интеллигентный человек, когда он, стряхнув с себя прозу обыденной жизни, с самоотвержением действует на пользу человечества, науки, отечества или ближнего».
— А... качества в мужчине, которые ценимы более всего? !
— Пожалуйста. «Мужество, самодеятельность, следование в жизни самобытными, не торными путями...»
— А в женщине?
— «Безусловная правда, женственность в высоком значении этого слова, любовь в лучшем ее значении, нравственная чистота, эстетичность...»
— Что такое счастье?
— И об этом тоже. Знаете, что ответил нам Петр Петрович?
— «Любить и быть любимым. Иметь возможность приносить пользу в кругу своей деятельности. Заниматься только тем, что соответствует вкусам. Несчастлив тот, кто не знает, чего желает. Не знает, где он начинается и где кончается, видит счастье во внешних обстоятельствах и не ищет его в своем внутреннем мире...» Она помолчала, вопросительно посмотрела на Андрея Андреевича.
— Ну что? Прекраснодушные фразы для назидания молоденьким девушкам?
— Понимаете, можно подумать и так...
— Если не знать этого человека, — решительно сказала Александра Петровна и, вырвав из блокнота листок, протянула Андрею Андреевичу, — прошу!
На рисунке в несколько штрихов был изображен Петр Петрович. Большой лоб, грустная улыбка, задумчиво-сосредоточенный взгляд, обращенный к чистому листу бумаги, лежащему перед ним на письменном столе.
— Спасибо, — растроганно сказал Андрей Андреевич, рассматривая набросок, — спасибо...
Затем он отложил листок в сторону, крепко растер подбородок пятерней и пытливо взглянул на сестер.
— И все же... Чем могу быть полезен?
***
В своем излюбленном углу, на диване, он сидит и, придвинув лампу, разглядывает какие-то рисунки. Рисунки большие, наклеены на жесткие листы картона. Откинувшись к спинке дивана, он подолгу держит их перед собой и, откладывая в сторону, устало закрывает глаза.
Тихо скрипнула дверь, в гостиную вошел Андрей Петрович. Да, это сын, об этом нетрудно догадаться, так похож он на Петра Петровича. Впрочем, все дело может быть в бороде, в пенсне, в одежде, манере держаться и ходить... Ему лет сорок, может, чуть больше, но очки и лысина никого не молодят — возраст!
— Как ты себя чувствуешь? — спросил Андрей Петрович, присаживаясь рядом.
— Спасибо, Андрюшенька, вот, смотрю.
Андрей Петрович взял в руки отложенный Петром Петровичем лист, вгляделся.
— Бий Джайнак, бий Адамкул, — медленно прочел он надпись, — переводчик султана Тезека Тардубек... Что это ты вдруг?
Азийские лица, внимательные, пытливые взгляды миндалевидных глаз, круглые меховые шапки и стеганые халаты. Переводчик весь внимание, у него тонкие черты лица, не без щегольства подправленные усы и бородка...
— Я не вдруг, — тихо ответил Петр Петрович, — это со мной всегда. А помнишь, — оживился он, даже весь засветился как-то, — помнишь поездку на открытие Закаспийской железной дороги? Я ведь в несколько минут решился — поеду! Что, ради церемонии? Представительства? По долгу вице-президента? Нет, я уже тогда понял — это последняя возможность. И когда мы с тобой с первым поездом въехали в Самарканд, когда с Регистанской площади я увидел снежные вершины азиатского нагорья, я был счастлив. Потом мы с тобой удрали с банкетов и двенадцать дней, целых двенадцать дней путешествовали по ущельям Верхнего Зеравшана. Как они были прекрасны, эти Урмитак, Мады, колоссальные многовековые орешины и снеговые поля... Я помню какой-то грандиозный пик высотой не менее семнадцати тысяч футов — все это было в тысячи раз очаровательнее Саксонии или даже Тироля. Это было — как возвращение в юность. Как возвращение на Иссык-Куль!..
Он замолчал, взял в руки следующий картон и, насупившись, погрузился в его созерцание. Картон был написан маслом. Художник изобразил вечернюю равнину сыртов, темные мазки ельников на покатых склонах предгорий, а над предгорьями — освещенную закатным солнцем белую стену какого-то заснеженного и величественного хребта...
***
Почти безлюдные, забранные в камень и решетки улицы. За чугунными оградами и черными, искореженными северными ветрами стволами лип, — безмолвные, кажущиеся вымершими особняки, их ампир и барокко, колоннады и портики. Где-то рядом — университет. Академия наук и ее библиотека — самая именитая и респектабельная часть Васильевского острова.
Андрей Андреевич и сестры Шнейдер медленно идут по Первой линии, идут, словно прогуливаясь, поглядывая на дома и подъезды, переходя с тротуара на тротуар, временами даже останавливаясь, хотя погода к такой неспешной прогулке никак не располагала: ветер, снег, и на улицах— почти ни души. Что ж, и то хорошо: никто не помешает.
— Просто я хотел сказать, — продолжая разговор, говорит Андрей Андреевич, — что в наш довольно-таки мрачный и скептический век высокий штиль как-то не в моде, а Петр Петрович... Я вот недавно перечитывал одну его статью. Об их поездке с Андреем Петровичем на открытие Закаспийской железной дороги, в тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году. Я представляю, что это такое — Закаспий. Я воображаю, что написал бы об этой пустыне человек иного склада ума и темперамента, нежели Петр Петрович. Вы знаете, что произвело на него «особое впечатление?» Станция Репетек! Самые пески! Так вот эти самые-самые пески ему и понравились. Ему все понравилось. У него все «хорошенькое». «Хорошенькая станция Кызыл-Арват». «Хорошенькая станция Асхабад». «Хорошенькие короткие долины Копет-Дага». Они ехали на железнодорожных платформах, на которых для гостей были сколочены дощатые домики. Так вот, эти домики тоже были «хорошенькие, хотя и не вполне удобные для переезда». Сырдарья у него «прекрасная», Самарканд у него «прекрасный». Зелень его садов «очаровательная», такой зелени он «не видел даже в Миланском городском саду». Голодная степь? Он здесь тоже не увидел, «впрочем, ничего ужасного. Правда, она достаточно безводна, но почва ее твердая и при орошении могла бы быть совершенно плодородною».
— Вы хотели бы прочесть у него некрасовский вариант «Железной дороги»?
— Нет, я говорю лишь о том, что Петр Петрович склонен именно к такому, возвышенному, что ли, стилю и духу изложения своей мысли...
— Как и к такому же образу жизни, — неуступчиво вела свою линию Варвара Петровна, придерживая шляпку рукой.
— И жизни, — согласился Андрей Андреевич. — Кстати, давно хочу вас спросить, как, когда вы познакомились с Семеновыми? У меня такое ощущение, что вы были всегда с ними... Просто-таки близкая родня!
— Близкая, — кивнула головой Александра Петровна, — он нас так и называл: «высоконареченные племянницы»! И еще говорил, что, дескать, родителей и детей не выбирают, что все, дескать, в руках провидения, а вот вы мои дочери по выбору... Вот так-то, Андрей Андреевич, по выбору!
— Я понимаю, я так и предполагал, — улыбнулся Андрей Андреевич, — а все-таки, с чего началось?
— А с чего началось у вас? Тогда я буду знать, что рассказывать, — сказала Варвара Петровна. — Я помню, что вы не так давно в сфере притяжения Петра Петровича, а все-таки? Когда? Как?
— Не знаю, как вам и ответить... Я ведь племянник... Федора Михайловича. И расположение Петра Петровича к Федору Михайловичу невольно распространялось на всех Достоевских, наверное, и на меня.
— Это не объяснение, Андрей Андреевич, и вы это отлично знаете. Иначе вокруг Петра Петровича было бы не продохнуть от родственников!
— Наверное. Насколько я понимаю, я смог стать ему полезным. Мой отец, гражданский инженер Андрей Михайлович Достоевский, был идеалистом, бессребреником, с сильно развитым чувством долга. Ему в высшей степени были свойственны точность и аккуратность, видимо, в какой-то мере эти качества унаследовал и я. Чуть ли не с юности я пристрастился к статистике, а в восьмидесятые годы начал работать в Центральном статистическом комитете. Был редактором, печатал статистические отчеты и статьи, вел многие издания комитета. Ну, а комитет в те годы — это же Петр Петрович.
— А потом? Я видела вашу фамилию на обложке «Истории полувековой деятельности Русского географического общества», при участии, да?..
— Это была эпопея. Никогда не забуду. Я в то время был уже членом Географического общества, а Общество готовилось к своему пятидесятилетию. Это было в тысяча восемьсот девяносто третьем году. Мне предложили собрать и подготовить к печати соответствующий материал. Что-то вроде отчета за прошедший период. А за этот период под флагом Общества вели научные изыскания более двух тысяч исследователей, это многие сотни экспедиций, работавших на территории, над которой никогда не заходит солнце!
— Литературная гипербола?
— Отнюдь. От меридиана Вислы — до меридиана Берингова пролива! Конечно, работа облегчалась тем, что в Обществе хорошо сохранился архив, все издания Общества. Но ведь это — четыреста шестьдесят томов и книжек, насыщенных самой разнообразной научной информацией по географии и геологии, ботанике и этнографии, зоологии и статистике, по истории, океанологии, климатологии, геодезии, да господи, даже об организационных неурядицах тех или иных экспедиций, обо всех перипетиях прохождения тех или иных путей, о судьбе сотен и сотен землепроходцев, и самых прославленных, и безвестных. А ведь надо было оценить итоги каждой экспедиции, определить основные этапы в деятельности Общества, осмыслить их значение... Я тонул в этом материале. Я был в полной растерянности, а до юбилейного тысяча восемьсот девяносто пятого оставалось всего два года. И тогда за очерк взялся Петр Петрович. Я никогда не видел, чтобы люди так работали. Он даже и не заглядывал особенно в наши выборки, он все знал и все держал в голове. Легко, пошучивая, он написал три объемистых тома, и в самое фантастическое время! Он уложил весь этот неподъемный для других материал в тысячу триста семьдесят семь страниц. Мне оставалось лишь следить за изданием, за корректурой. Ну, а в феврале тысяча девятьсот третьего года он пригласил меня на должность секретаря Общества. И вот — я с ним.
— После вас мне просто нечего рассказывать, Андрей Андреевич. У нас как-то все просто получилось. И как-то легко. Началось с живописи. Сначала — увлечение живописью сблизило нас с Ольгой, ну, а друзья детей Петра Петровича всегда становились и его друзьями, такой уж он человек. Тем более, друзья Оленьки, любимицы...
— Любимицы?.. Мне всегда казалось, что он любит всех своих детей, никого не выделяя. Конечно, Ольга Петровна дочь, причем единственная...
— Не это главное, Андрей Андреевич, — покачала головой Варвара Петровна, — я ничего не хочу умалить, никого не хочу обидеть, конечно же, он любит своих сыновей... Но понимаете, к Ольге он относился особенно, и не только потому, что у нее не сложилась личная жизнь, что не было своего дома, семьи, нет. Он всегда выделял ее, ее утонченную духовность, чуткость ее, ранимость. Ведь не случайно же Зеркала он подарил именно ей, Ольге!
— Зеркала, Зеркала... Это в Гремячке? Какие-то овраги?
— Да, в деревне. Овраги. Тридцать десятин оврагов, промоин, короче, неудобей. А он взял и купил их. Над ним еще подсмеивались. Купил и подарил Ольге. Почему?
— Хорошо. Почему же?
— Надо знать, чем были для него Зеркала в детстве. И надо знать Ольгу. И еще — некоторые стихи. Можно прочесть стихи? Они короткие.
— Ради бога, Варвара Петровна! Любые стихи в вашем чтении, уверен, приобретут...
Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои—
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне,
Как звезды ясные в ночи, —
Любуйся ими и молчи.
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, —
Питайся ими и молчи!
Лишь жить в самом себе умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их заглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, —
Внимай их пенью и молчи.
— Тютчев. Федор Иванович. Родился в тысяча восемьсот третьем году на Орловщине, умер...
— Я не сомневалась в вашей памяти, Андрей Андреевич. Я позволила себе прочесть их только потому, что в них — вся Ольга. Она узнала их еще молоденькой девушкой и прошла с ними через всю жизнь... Она именно такая. Все уезжают осенью из деревни — она приезжает. Все кончают к вечеру работать — она начинает. Мы всегда подтрунивали над ней, над ее привычкой обращать день в ночь, а ночь — в день. А Петр Петрович... Он понимал ее. И зашторенные окна, и зажженную лампу, когда за стеной — солнце, и полуночные бдения, и расположенность к осени, к безлюдью, к этим стихам...
— Но ведь... При всем уважении к Ольге Петровне... Что общего? Вы можете представить себе Петра Петровича, упивающегося безлюдьем и меланхолией! Всегда на виду, всем доступен, всегда в окружении каких-то и самых разных людей, всегда, в работе, причем где угодно и в самых невероятных условиях! На подоконнике, за обеденным столом, на заседании сената. Да-да, летние сборы насекомых он обрабатывал на заседаниях сената. Вытаскивал из карманов вицмундира коробки и работал. От него всегда пахло эфиром, формалином, и сенаторы морщились. А он не обращал ни на кого внимания и работал. Это не анекдот, ему жалко терять время на эту бессмысленную говорильню. Ни тени уныния, усталости, он называет усталость вредной привычкой, а такой привычки, как он говорит, у него нет. Да это же два разных полюса!
— Одной планеты, Андрей Андреевич. И Зеркала-то он подарил именно ей, Ольге Петровне!
***
Судя по всему, это какая-то мансарда, и в большое, ничем не занавешенное окно видны только закопченные брандмауэры, кирпичные стены соседних домов и жухлое железо без конца распластавшихся вокруг крыш. Железная печь с подвешенной к потолку жестяной трубой, колченогий стол, софа, несколько стульев — вот и все убранство этой довольно-таки запущенной на вид комнаты. Да еще — и прежде всего — картины, эскизы и этюды, рамы и подрамники, мольберты и кисти — пучками из глиняных кувшинов, — гипсовые слепки антиков, рулоны ватмана и кипы рисунков, везде, где только их можно положить. Словом, обычная мастерская не очень преуспевающего художника, вернее — не очень модного. Что ж, скромные пейзажи Александры Петровны никогда не приносили ей больших денег. Но — кормили. А сейчас она торопливо убирает все с рабочего стола, извлекает из шкафчика чашки и сахарницу, заглядывает то и дело в греющийся на печке чайник, словом, хозяйничает. Нашлось дело и Андрею Андреевичу. Присев на корточки, он колет березовую чурку и, открыв дверцу, глядя на пламя, кормит огонь.
— Хорошо, расскажите про Зеркала, — говорит Андрей Андреевич. — Кстати, я их видел. Когда я однажды приехал в Гремячку, Петр Петрович вооружил меня стамеской, коробками, и мы потащились туда собирать жужелиц.
— Вы были летом, — сказала Александра Петровна, — а Зеркала надо смотреть весной, когда в полях тает снег. Быстрей всего он сходит со скатов оврагов, и тогда на солнцепеках появляются первые цветы. Это анемоны и адонисы. Любимые цветы Петра Петровича. И ирисы. И фиалки. И незабудки. А талая вода, устремляясь в овраги, бурлит водопадами, блестит крошечными озерцами— Зеркала! Местным жителям и в голову не приходила такая мысль — в грязь, в паводок тащиться на Зеркала. Да и что там делать? А он, будучи мальчишкой, увидев впервые этот овраг, пришел в такой неописуемый восторг — он всегда испытывал только неописуемый восторг, — что с тех пор стал совершать свои экскурсии в Зеркала ежедневно! Теперь любой гимназист наслышан о путешественнике Семенове, о Тянь-Шане. А путешественник начался вот откуда, с оврага Зеркала!
— А вы знаете, с чего началось путешествие на Тянь-Шань? Как ему удалось все-таки осуществить эту идею?
— Да-да, Андрей Андреевич, вы хотели показать какие-то интересные документы. Всё! И ни на шаг в сторону!
— Прошу, — засмеялся Андрей Андреевич, — но прежде — маленькое разъяснение.
— Никаких разъяснений!
— Но ведь должен же я сказать, что, мечтая попасть на Тянь-Шань, Петр Петрович вынужден был хранить эту цель в строжайшей тайне...
— Знаем. Только что кончилась Крымская война, и по дипломатическим соображениям, чтобы не дразнить англичан, его бы не выпустили даже из Петербурга, упомяни он слово «Тянь-Шань». Сибирь, Алтай, все, что угодно, только не Тянь-Шань, верно?
— Ну, не совсем так. О том, что Семенов собирается на Тянь-Шань, знали многие. Не в Петербурге — в Берлине. Но немцы в конфронтации англичан и русских участия не принимали, и потом это были немцы особенные, не политики, не чиновники — это были коллеги Петра Петровича, люди одной идеи... Став студентом Берлинского университета, Петр Петрович слушал лекции Карла Риттера, чей многотомный труд «Землеведение Азии» он по поручению Русского географического общества начал переводить еще в тысяча восемьсот пятидесятом году. Риттер проникся симпатией к Петру Петровичу не только как к своему переводчику и комментатору-— он был поражен знаниями, подготовкой Петра Петровича, его увлеченностью! Он даже отсылал к нему всех, кто интересовался материалами по географии Азии, и говорил, что с настоящим состоянием сведений по этому региону Семенов знаком глубже, нежели он сам. И конечно же, Петр Петрович сообщал Риттеру, что мечтает о путешествии на Тянь-Шань! В это же время Петр Петрович сближается с силезским бароном Фердинандом Рихтгофеном. Тот на шесть лет моложе и с восторгом слушает рассказы Петра Петровича о России, о Средней Азии, о планах Семенова проникнуть в тянь-шаньские пределы со стороны Сибири. Рихтгофен тоже загорается идеей достичь Тянь-Шаня. Но со стороны Китая. В этот же «берлинский» период жизни с Петром Петровичем знакомятся и два брата-баварца, доктора Мюнхенского университета Адольф и Герман Шлагинтвейты. Их план достичь Тянь-Шань со стороны Индии взят под покровительство самим Гумбольдтом и кажется им наиболее предпочтительным. Семенов тоже решает представиться Гумбольдту. Он пишет ему письмо и получает от великого старца любезное приглашение. Так о планах Семенова узнает и Гумбольдт. Впрочем, он был наслышан о Семенове и от Риттера. Знал и о солидной подготовке Петра Петровича, и о его приготовлениях к путешествию... Гумбольдт очень интересовался будущими путешественниками на Тянь-Шань. Именно тогда произнес он свою сакраментальную фразу о том, что умрет спокойно, когда ему доставят хотя бы несколько обломков от скал Тянь-Шаня...
— Больше ничего не рассказывал вам Петр Петрович об этой встрече? — спросила, чему-то улыбаясь, Александра Петровна — Только это?
— Да, собственно и все. Гумбольдт приветствовал его решимость, искренне пожелал успеха. Он был очень стар тогда, Гумбольдт, где-то за восемьдесят...
— Как теперь Петру Петровичу... А я категорически не могу согласиться, что наш Петр Петрович стар... Кстати, при аудиенции у Гумбольдта произошел занятный эпизод. И весьма характерный...
— Да? А мне вот Петр Петрович его не доверил...
— Не в этом дело. Хотя и в этом — весь Петр Петрович, его корректность просто потрясает. Я думаю, что он не рассказал вам потому, что поостерегся бросить хотя бы мало-мальский иронический намек в адрес другого человека, тем более такого выдающегося и высокочтимого... Гумбольдт спросил Петра Петровича, почему, дескать, он взялся за перевод «Землеведения» Риттера, а не его сочинений о Центральной Азии, причем, спросил весьма тонко, как бы невзначай.
— Занятно, — улыбнулся Андрей Андреевич, — щекотливая ситуация для Петра Петровича, и что Петр Петрович?
— А он ответил, что каждая строка бессмертных Гумбольдтовых творений, его масштабные воззрения, вдохновляющие людей на беззаветное служение науке, даже подчас рискуя собственной жизнью, и так широкоизвестны образованной публике, а тем более русским ученым, которые стремятся постичь Азию и для которых знание немецкого, французского, английского языков никогда не являлось камнем преткновения. Другое дело Риттерова «Азия», которая носит характер справочной книги, в которой к описанию каждой местности приурочено изложение всех имеющихся печатных сведений, и которая посему должна быть под рукой каждого путешествующего, поскольку сведения эти нуждаются в дальнейшем уточнении, дополнении и развитии...
— Ну, я всегда говорю, что Петр Петрович — прекраснейший председатель самых непростых собраний, с самыми щекотливыми, каверзными вопросами! Кстати, давайте вернемся к его путешествию в Тянь-Шань. Вернее, к организации его. Итак, никому ни слова, все на свой страх и риск. Учтем, что в ту пору он был секретарем Отделения физической географии. И вот какие документы я хотел вам показать.
«В Совет императорского Русского географического общества, — начинает читать Андрей Андреевич. — Отделение физической географии в заседании своем одиннадцатого апреля, осведомившись от действительного члена П. П. Семенова, что он располагает в течение будущего года приступить к изданию частей Риттеровой «Азии», относящихся до Алтая, сочло особенно полезным доставить ему случай посетить Алтай... Отделение вместе с тем полагало не стеснять г. Семенова никакими инструкциями и программами...»
— Каково! — засмеялась Александра Петровна.— Не стеснять инструкциями или программами... Сам составлял, нет?..
— Наверное, сам, — тут же ответила себе Александра Петровна, — узнают коней ретивых по их выжженным таврам... Ну и что Совет?
— А Совет пишет: «Седьмое мая тысяча восемьсот пятьдесят шестого года. Милостивый государь Петр Петрович. Совет, согласно с мнением Отделения физической географии, одобрившего это путешествие, постановил просить Вас, милостивый государь, отправиться этой же весною в Томскую губернию и Алтайский округ, предоставив Вашему собственному усмотрению избирать методу исследований и собирать сведения по тем предметам, которые вы признаете необходимыми...»
— Прекрасно, — теперь уже смеялись вместе, — «постановил просить Вас, милостивый государь»!
Отсмеялись, светло поулыбались, думая, наверное, об одном и том же. Потом Александра Петровна сказала:
— Все это так, Андрей Андреевич, и все-таки это лишь одна сторона дела, официальная так сказать...
— Есть и не официальная?
— Есть. Мы знаем о существовании двух писем, которые помогли бы ответить на этот ваш вопрос. Одно — написано Ольгой Петровной отцу, в один из трудных моментов ее жизни. Другое — ответ Петра Петровича. Вот это письмо и представило бы для вас особый интерес. Сейчас мы разбираем архив Ольги Петровны, попадется — дадим знать.
— А это... удобно?
— Андрей Андреевич! Есть личные письма, которые просто невозможно считать только личными... И чем больше людей их прочтет — тем вернее будет исполнено их предназначение...
 Памятник П.П.Семенову Тян-Шанскому в г.Балыкчы (прежнее название — Рыбачье) на Иссык-Куле
Памятник П.П.Семенову Тян-Шанскому в г.Балыкчы (прежнее название — Рыбачье) на Иссык-Куле
Он медленно бредет вдоль набережной Невы, то и дело останавливаясь, опираясь о парапет, глядя вниз, на Неву, на снежные поля льдин и черные трещины полыней. Это где-то у Академии художеств и ее сфинксов, здесь безлюдно и тихо, а у заснеженных парапетов и вовсе никого — камень и вода.
— Вам плохо?— участливо спрашивает у остановившегося Петра Петровича случайный прохожий.
— Нет, нет, ничего, — поспешно отвечает Петр Петрович, — более, чем ничего...
Он смотрит на покрытый инеем гранит, на скованную льдинами Неву и торосы, а видит не Неву, не торосы, перед его отсутствующим, устремленным вспять взором вне всякой связи с окружающим вдруг возник снежный склон, и гряды прорывающих его черных скал, и сверкающие оледенелыми крыльями перевальные седловины, а там, еще выше, в смятенных мазках разорванных ветром облаков и радостного, жгуче-синего неба — сияющие на солнце беломраморные шатры исполинских вершин.
— Петр Петрович, — доносится к нему издалека чей-то знакомый голос, — Петр Петрович!
Он оборачивается и видит встревоженное лицо Достоевского.
— Добрый день, — старается как можно безмятежней улыбнуться Андрей Андреевич, — дома сказали, что я смогу найти вас здесь, на набережной... Свежий воздух?
— Да... Немножко прогуляться... Стою вот, думаю о забавных совпадениях... О превратностях человеческих судеб... Знаете, Андрей Андреевич, был на Рязанщине такой ордынский выходец, Каркадым... Во второй половине четырнадцатого века. Командовал он охранной стражей великого князя Рязанского Олега, и во святом крещении был назван Симеоном. Вот отсюда и пошел род Семеновых, которые после падения рязанского княжества перешли на службу московским царям. А в Петербурге, как вам известно, Андрей Андреевич, есть такая Симеониевская церковь. Нет, это чистое совпадение, такое название, тут интересно другое. Знаете, кто был среди ее строителей? Один из виднейших архитекторов екатерининских времен Иван Яковлевич Бланк. Кстати, за нашими спинами Меньшиковский дворец, так Бланк принимал участие в его перестройке, а в Москве и Подмосковье он создал массу замечательных построек — вы уже догадываетесь, кто это такой? Отец этого архитектора — выходец из Франции, затем — жил в Саксонии, затем оказался в России на Олонецких заводах, где работал мастером, — видимо, его выписал Петр Первый. Так вот этот Бланк первый — прадед моей матери, и, стало быть, архитектор Бланк — прадед мой.
Они невольно оглянулись, взглянули на Меньшиковы палаты, потом тихо пошли вдоль Невы, в сторону Кадетской линии. Петр Петрович снова заговорил, словно опережая Андрея Андреевича, словно опасаясь молчания, каких-то знаков сочувствия и утешения.
— А родословная моего сына Дмитрия? От первого брака. Она еще интереснее моей, тут свои напластования добавились, такие повороты судеб — даже не верится! Когда я впервые увидел Веру Александровну Карееву, вернее — Чулкову, Кареева — это фамилия ее тетки, у которой после смерти родителей воспитывалась семнадцатилетняя сирота — меня поразили не только ее удивительная скромность, душевная чистота, но и совершенно правильные, тонкие, венецианские черты ее лица, которые столь загадочно было мне видеть ц скромном домике овдовевшей русской помещицы, в маленьком сельце Гремячке, где-то на границе Рязанщины и Тамбовщины, то есть в самой что ни на есть российской глубинке. Потом я узнал, что бабушка моей Веры была венецианкой, которая по материнской линии принадлежала к знатному роду Мочениго, давшего не одного дожа Венецианской республике. Отец ее был консулом на Корфу, где три года стоял русский отряд. И вот один из офицеров этого отряда, некий Сафонов влюбился в двенадцатилетнюю девочку, а когда ей исполнилось тринадцать — сделал юной Цецилии предложение. Разумеется, родители Цецилии ответили отказом, и тогда Цецилия попросту сбежала со своим русским Ромео. Они где-то прятались, но с острова не убежишь, их нашли, но что было делать — простили. Они уехали в Россию, стали жить в деревне, но и до глубокой старости Цецилия путала русские и итальянские слова, а ее темперамент и акцент приводили внуков в неописуемое веселье... Диву даешься, Андрей Андреевич, как подчас переплетаются в судьбах русских людей Европа и Азия. Может, еще и поэтому я так часто говорю об особом предназначении России в ее отношениях между Западом и Востоком, о роли ее в судьбах Евроазиатского континента!
— Петр Петрович, — воспользовался первой же, едва обозначившейся паузой Андрей Андреевич, — как раз в развитие этого разговора, я должен согласовать с вами один вопрос. Как секретарь Географического общества — с его вице-председателем. Тут есть один документ, его надо печатать, рассылать, а время не ждет. Я понимаю, вам сейчас не до этого, но...
— Я слушаю вас, Андрей Андреевич, слушаю...
Андрей Андреевич сунул руку во внутренний карман пальто и вытащил сложенный вчетверо листок бумаги.
— «Совет императорского Русского географического общества, — развернув, начал он читать, — по поручению общего собрания от имени всего общества будет приветствовать вице-председателя Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского второго января тысяча девятьсот седьмого года по случаю исполняющегося в этот день восьмидесятилетия жизни Петра Петровича.
Сообщается об этом всем членам Общества на случай, если бы кто пожелал прислать юбиляру свое письменное поздравление по адресу Васильевский остров, Восьмая Линия, дом тридцать девять».
— Тян-Шанского? — повернувшись, недоуменно переспросил Петр Петрович. — Что за новость?
— Новость, Петр Петрович, — довольно расплылся в улыбке Достоевский. — По высочайшему соизволению... Официально вас известят на чествовании, а я уже знаю...
— Погодите, Андрей Андреевич, погодите, — не без замешательства засмеялся Петр Петрович, — это что, буквально?
— Один нюанс, Петр Петрович. Осуществляя во всем твердость, Его Императорское Величество запамятовало о мягких знаках, ну, а подсказать, поправить... вы ж понимаете... Так что «Тян-Шанский» — без мягкого. Без единого. Вот так. Привыкайте…
(ВНИМАНИЕ! Выше приведено начало текста)
Открыть полный текст в формате PDF
© Дядюченко Л.Б., 1986
Количество просмотров: 6039 |


