Главная / Художественная проза, Крупная проза (повести, романы, сборники) / — в том числе по жанрам, Исторические / — в том числе по жанрам, Приключения, путешествия
© Плоских В.М., 2005. Все права защищены
Произведение публикуется с письменного разрешения В.М.Плоских
Не допускается тиражирование, воспроизведение текста или его фрагментов с целью коммерческого использования
Дата размещения на сайте: 10 ноября 2008 года
Таласская битва
Документально-художественная повесть о знаменитой битве 751 года н.э. — единственном сражении арабов и китайцев, зафиксированном в истории. Битва явилась поворотным моментом, давшим толчок распространению ислама в средневековом Кыргызстане
Публикуется по книге: Таласская битва./ М. Хасан, О. Шаршеналиев, А. Газиев. — Б.: «Шам», 2005. — 100 с.
Ответственный редактор академик В. Плоских
УДК 82(82)
ББК 84 Ки 7-4
4702300100
---------------
М 455(11) -2005
X —24
ISBN 9967-10-199-7
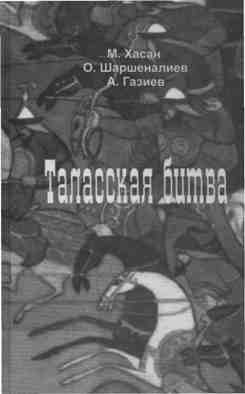
ТЮРГЕШИ
Каган Сулук Чабыш-чор бежал с поля битвы. Бежал уже пятый день. Маленький отряд всадников редко останавливался на отдых. Лишь только кони, задыхаясь и храпя, начали спотыкаться от усталости, старый сотник сверстник и доверенный кагана, приподнялся на стременах и оглядывал окрестности, отыскивая подходящее место для короткого привала. Редкие селения обходили стороной. Сейчас любой кетхуда*, позарившись на арабские динары, мог связать сонного владыку тюргешей и выдать победителю. (*Kemxyдa — староста селения) Нет, подальше от глиняных стен и башен с их льстивыми и коварными обитателями, спящими на мягких подушках. Ничего нет безопаснее для кочевника, чем ручей с травянистыми берегами, да кошма, сваленная женщинами из горных аилов.
Только раз удалось сварить мясо. Обычно воины и сам божественный тюргеш-каган довольствовались горсткой талкана*, разведенного в воде. (*Талкан — поджаренная на жиру ячменная мука крупного помола) За пять дней пути каган не проронил и слова. Горькие думы о сегодняшнем дне чередовались с воспоминаниями о былом, давно ушедшем. Думы терзали воспаленный мозг старика, рвали на части изболевшее сердце. И только воспоминания приносили мимолетное облегчение, отвлекали от тяжкой нависшей глыбы страшного и неотвратимого: «Что же теперь будет?». Он — каган. Он должен держать ответ перед своим народом.
С чего и началась беда? Как так случилось, что он, единоличный повелитель всех народов и племен от Черного Иртыша и до Желтой Амударьи на двадцать втором году своего правления оказался в положении беглеца, уклонявшегося от случайной встречи с последним кетхудой своей державы? Почему стертые с лица земли его храброй конницей арабы вдруг оказались победителями:
О, позор! Об этом лучше не думать, что разграблены обозы, что потеряна казна?
Ведь пришлось бросить на поругание мусульманам даже свою любимую жену. О, Тенгри-ата! О, Умай-эне! Где взять силы, чтобы вынести все это?
С чего же началось несчастье народа тюргешей? А может быть и вправду Аллах сильнее, чем Тенгри-ата? Не сделал ли он ошибку, прогнав послов халифа Хиша-ма, когда те предлагали ему принять ислам? Каган хорошо помнил этот день.
Его войска только-только вернулись в Суяб. И в селениях, и в кочевых — веселье, радость. Не было ни одного нищего обозного слуги, который бы не надел новый халат. Конные воины получили месячное жалованье: хочешь — кусок гладкого согдийского шелка, хочешь цену этого куска — 25 полновесных серебряных дирхемов. Праздник возвращения с победой омрачали только вдовы и матери павших воинов. Рвут волосы, царапают щеки. Слезы и кровь размазывают по грязным лицам...
Кагану жалко бедных женщин. Он подошел к ним и тоже поплакал, надрезал кинжалом мочку уха, приказал выделить часть добычи и уплатить жалованье семьям погибших... Чего же еще? Так нет. Бросают шелк в грязь, топчут его ногами, требуют вернуть сыновей и мужей. Глупые бабы. Оттуда, куда ушли храбрые воины, рожденные ими, не возвращаются. Богу смерти Эрклигу тоже нужны всадники. Да, если бы так недостойно вели себя неписанные дочери кара-бодуна*. (*Карабодун — букв, «черный народ», простолюдин) Вон келин* Огуш-тархана, красавица Бакыт. Щеки изрезала, волосы распустила, большой, как бухарский арбуз, живот бесстыдно выставила и уставилась на него ненавидящими глазами. Так бы и съела! (*Келин — сноха) Кагану понятно, нелегко оставаться вдовой в ее годы. Сколько ей? Лет пятнадцать-шестнадцать, наверное. Если бы не беременность, можно было бы взять в свой гарем. Ну, да эта не пропадет. У Огуш-тархана подрастает второй сын, Турсун. Ему уже десять минуло.
За Бакыт Огуш-тархан дал большой калым*. (*Калым — выкуп за невесту) Не пропадать же богатству. Поэтому красавицу по обычаю отдадут за Турсуна, когда немного подрастет. Правда, куда этому сопляку до его старшего брата, Огул-Барса. Каган помнил, как погиб муж красавицы Бакыт. О, это был настоящий алп-герой, несмотря на то, что вместо усов и бороды на лице его курчавился редкий черный пушок.
Тогда, он силами дихканов* Ферганы, Шаша** и Тара-бенда*** осаждал крепость Кемерджи, что под Бухарой. Дихкане утверждали, что Кемерджи защищают пятьдесят ослов и хвалились, что возьмут ничтожную крепость за пять дней. Эти пять дней обернулись в два месяца. Целых два месяца арабы, укрывшись за стенами, успешно отражали приступ за приступом.
(*Дихканы — в средние века земледельческая аристократия)
(**Шаш — область Ташкента)
(***Тарабенд — область Отара (совр. Шаульдер).
Когда он, сделав успешный набег на Несеф, Кеш и Самарканд, вернулся под Кемерджи с богатой добычей и полоном, крепость стояла, как ни в чем не бывало. Только мосты через ров были сожжены, а в стенах кое-где зияли бреши.
Ох, и досталось тогда дихканам! Он обругал их самих ослами и приказал снять осаду. Молодой и самолюбивый царь Тарабенда из славного тюркского племени чаруков выступил вперед:
— Э, повелитель! Разреши сказать!
— Говори!
— Мы не прилагали особых усилий для взятия этой кучи глины. Завтра утром мы покажем себя. А ты — смотри и не помогай нам.
— Не думаю, что вы добьетесь успеха.
— А вот отдай мне двух невольниц из арабок. Что сидят близ твоего шатра. Тогда я только с тарабендцами возьму крепость.
Каган хорошо помнил то ранее утро скорби. Царь Тарабенда, несмотря на разящие стрелы и камни, пробился к самой стене, верх которой был разрушен. Вдруг из-за обломков стены показался араб из племени банутамим и бросил в царя крюк. Крюк зацепился за кольчугу и тами-мит с помощью женщин и детей втащил царя наверх и на глазах всего войска пронзил мечом. Тарабендцы, потеряв 6 или 7 человек, отхлынули от стен, оставив тело своего царя на поруганье.
Вот когда показал себя безбородый муж этой злюки Бакыт, несчастной келин Огуш-тархана. Он кошкой взобрался на стену, убил тамимита, взял его аркан с крюком и меч, взвалил на плечи тело царя Тарабенда и без единой царапины вернулся. Многие, да и сам герой, сочли это чудом. Только каган и опытные рубаки знали, что чуда не было. Было обычное везение безудержной молодости. И еще одно знали старики: такие долго не живут. Арабы запомнили юношу. Много раз лучшие наездники из них вызывали Огул-Барса на единоборство. Отец разрешал ему выезжать только тогда, когда противник был в богатых доспехах и на хорошем коне. Трех витязей сразил юноша. Старый Огуш-тархан радостно потирал руки: только за добытые доспехи можно было купить табун лучших ферганских кобылиц. А вот за жизнь самого Огул-Барса теперь никто из ветеранов не дал бы и потертого дирхема: разве воины ислама оставят без отмщения смерть своих лучших рыцарей?
Каждую победу юноши молодежь приветствовала торжествующими криками и звонкими ударами мечей о щиты, а старики переглядывались, да только головами качали.
Арабы перестали вызывать Огул-Барса на единоборство. И это было очень подозрительно. Ему бы поберечься, а он каждое утро выезжал под стены с тугим луком и полным колчаном. Правда, это было пустым занятием. Стрелы его ранили еще двух защитников Кемерджи, а толку? Их же не ограбишь — они на стенах. Эх, молодость, молодость-Судьба подстерегала Огул-Барса ранним утром у южных ворот Кемерджи. Там была еще маленькая калитка. Она оказалась приоткрытой, а через ров была перекинута доска. Эх, Огул-Барс, Огул-Барс! Он, верно, подумал, что это проход для лазутчиков, которые вышли ночью и еще не вернулись в крепость.
Какой случай проникнуть в город, запереться в башне и обеспечить штурм города через южные ворота! Он спешился, побежал по доске и...
Потом пленные арабы рассказывали, что это было делом хитрого Талиба ибн ал-Мухаджира ат-Тан вкупе с еще двумя негодяями из племен шайбан и наджи. Они перебросили подпиленную доску через ров и затаились за приоткрытой дверью калитки. Когда доска обломилась и Огул-Барс упал в ров, они выскочили из засады с натянутыми луками. Наджиец попал прямо в переносицу юноши, но на нем был тибетский шлем с забралом. Стрела высекла искру и отскочила. Шайбанит целил в глаз и не попал. А проклятый Галиб ударил под левую мышку. Там не было брони...
Да, а с чего это он вспомнил доблестного юношу. Да, с чего бы? Ах, да! Из-за этой разгневанной тигрицы Бакыт, келин Огуш-тархана. Не любят своего кагана женщины тюргешей, ой, не любят! Сколько славных воинов полегло в Согде, Тохаристане, Бухаре, Шугнаке, Кашгаре, сколько вдов осталось, сколько сирот...
А Бакыт почему вспомнил? Да, почему? А... как раз, когда он оплакивал павших воинов, и смотрел на злющую вдову, на явно запаленном коне подскакал почтарь халифа Хишана. Они добиваются встречи с каганом. Ну, что ж! Послы, так послы. Послушаем, что скажет халиф. А почтаря велел выпороть, чтоб впредь берег лошадей своего кагана...
Послов встретили, как положено, с почетом. Разместили неподалеку от суябской цитадели, где жил сам каган. Правда, по соседству с посольским домом с одной стороны был монастырь буддийских братьев, а с другой — церковь сирийских тарса*... (*Тарса (тюрк.) — христиане) Прислуга дома послов докладывала, что благочестивые мусульманские улемы с одинаковым отвращением затыкали уши и плевались как при звуке буддийского гонга, так и при звоне христианских колоколов. Просили переселить их в другое не столь шумное подворье. Он отказал. Мусульманские фанаты, которые гвоздями прибивали чалму к головам инаковерующим, должны понять, что есть другой, отличный от ислама мир, в котором хватает места для любой религии.
Каган приказал поставить багдадских дипломатов на довольствие и позвал Харриса ибн-Сурейджа. Его интересовала личность самого посла. Что он за человек? Имеет ли все при дворе халифа правоверных? Есть ли слабости? Не падок ли на золото, женщин, земли? Не пьет ли запрещенное Мухаммедом вино? И что немаловажно, узнать основную цель визита послов. Многолетняя дипломатическая практика показала, что эти сведения неоценимы при решении многих государственных дел.
Сведения, которые принес Харрис, были самые неутешительные: посол — ортодоксальный мусульманин, аскет и давно перестал интересоваться женщинами из-за весьма преклонного возраста. Он в почете при дворе халифа, предан ему и слывет знатоком не только Корана, но и военного дела.
Каган уважал таких людей. Они всегда говорят прямо и с ними бесполезно кривить душой. Напрямую, так напрямую. А чего ему изворачиваться? Он изгнал воинство ислама из Мавераннахра*. (*Мавераннахр (араб.) — название территории между Амударьей и Сырдарьей) Только горстка их сидит в цитадели Самарканда, из которой они и нос высунуть боятся. Все налоги и деньгами, и зерном поступают ему, кагану тюргешей. А в арабском Хоросане и в его столице Мерве — голод, как после джута. Ни единого зернышка туда не попадает из Согды и Бухары. Говорят, что лепешка на мервском базаре стоит целый дирхем, да и то не сыщешь. Скоро будут продавать зерно поштучно.
Узнать обо всем этом для Харриса не составило большого труда. Он подарил секретарю посольства два динара и узнал, что халиф предлагает кагану мир и союз при одном условии: каган, все беги, все цари подвластных кагану народов и весь кара-бодун принимают ислам.
ВЕСТНИК
На берегу широкой, но мелководной реки правильно раскинулась хан той — ставка верховного правителя карлуков. Стоял конец весны, и засуха еще не поразила степь: до самого горизонта простирался изумрудно-зеленый ковер, испещренный мириадами ярко-алых огоньков — то цвели маки. Скоро, скоро вся эта красота увянет, исчезнет и останется только унылая пыльная полупустыня. И тогда кочевники поднимутся высоко в горы, на благодатные летние пастбища. А пока сотни юрт тянулись вдоль берега. Подобно могучему кургану возвышался среди них роскошный шатер правителя — Эльтебера.
Весь этот кочевой город с наступлением дня наполнялся шумом людских голосов, тугим конским ржанием, жалобным блеянием ягнят, привязанных короткими поводками к длинным веревкам между двух кольев. По всем направлениям сновали пешие и конные. В ставке всегда людно и шумно. Поэтому никто не обратил внимания на одинокого всадника, пробиравшегося между войлочными шатрами. На нем была простая черная одежда степняка, шапка надвинута на глаза.
Всадник добрался до шатра эльтебера, где его остановила стража. Гвардейцы в полном вооружении (блестящая броня, шлемы с крылышками, мечи, копья и булавы) представляли внушительное зрелище. Последнее время эльтеберы начали претендовать на происхождение от рода Ашина — древних и славнейших повелителей всех тюрок. И для своей гвардии возродили боевую форму времен кагана (первый джабгу) Истеми. Всадник усмехнулся: ходят слухи, что карлукский правитель уже не довольствуется титулом «эльтебер» и желает называться более высоким — «джабгу».
Пока всадник препирался с гвардейцами, из шатра вышел человек в нарядном зеленом халате. Стражники сразу вытянулись: ведь это самый главный церемонимейстер-распорядитель двора проверяет их службу! Вельможа равнодушным взглядом скользнул вокруг и повернулся, чтобы уйти. Всадник окликнул:
— Бирук Хаккулы!
Тот пристально вгляделся, внезапно расширил узкие глазки и от изумления прикрыл рот ладошкой.
— Вижу, ты узнал меня, — сказал всадник,— Доложи своему господину: я с важной вестью.
— Повелитель только что откушал и теперь выслушивает своих буюруков! — отвечал Хаккулы-распорядитель, приходя в себя. — Какая может быть весть у «черного» тюргеша к повелителю карлуков?
— Хорошая. Он будет доволен.
Бирук-распорядитель недоверчиво пожевал губами, но все же скрылся в шатре.
Его долго не было. Наконец, обращаясь к гвардейцам, сказал:
— Пусть этот человек войдет.
Гость переступил порог шатра. Все присутствующие (а их было здесь много) выжидательно повернули головы в его сторону. Он оглядел блестящее собрание. Почти всех он знал в лицо.
Сам правитель сидел в дальнем конце зала на троне, сделанном в виде барана (подлокотники). (Когда-то этот трон принадлежал ныне побежденному согдийскому владетелю Кушана). По правую его руку, чуть ниже, расположился стройный джигит с хищным лицом — брат пра¬вителя, знаменитый воин Утембек. По левую руку — тоже молодой человек в согдийской дорогой одежде с золотым поясом — сын владетеля Чача (область и город в Средней Азии, теперешний Ташкент). Слева и справа — ряды знатных людей в зеленых халатах — предводители трех племен, составлявших народ карлуков. Они же – буюруки, т.е. советники правителя.
Гость произнес традиционное цветистое приветствие Эльтебер смотрел на него тяжелым взглядом, не предложив сесть, мрачно бросил:
— Говори.
— Великий Эльтебер! У меня весть, приятная для царственного слуха. Твои союзники — арабы выступили в поход! Через половину луны ты увидишь их коней под стенами Тараза.
Чуть слышный шепот пробежал по рядам присутствующих. Знаменитый воин Утембек радостно хлопнул себя по колену. Сын правителя Чача сказал возбужденно:
— Наконец-то! Пришло время отомстить табгачам за смерть моего отца!
Но правитель молчал. Лицо его было мрачно, он все тем же тяжелым взглядом смотрел на пришельца. Шепот и возгласы стихли: владыка гневается. Однако — по какой причине? Весть-то действительно приятная.
Догадался один лишь распорядитель Хаккулы. Он закричал на вестника:
— Как ты смеешь именовать повелителя эльтебером? Разве ты не знаешь, что он соизволил принять титул «джабгу»?
Вестник усмехнулся:
— Нет, не знаю. К тому же никто не может сам называться «джабгу», этот титул жалует лишь каган.
От такой дерзости все присутствующие слегка ахнули; лицо владыки побурело, он хрипло бросил:
— Если ты все сказал, можешь идти.
Вестник проговорил, усмехаясь:
— За хорошую весть положи подарок...
Грузный джабгу неожиданно легко вскочил с трона:
— Дайте мне меч! Схватить дерзкого!
Вмиг руки вестника оказались скручены за спиной. Он кричал:
— Я — твой гость, а гость находится под защитой обычая! Я — добрый вестник, а вестников не убивают! Что ж — убей меня, и пусть разнесется из края в край по степи твой позор!
Ближайшие буюруки что-то тихо нашептывали владыке. Наконец тот пришел в себя, сел на трон, скрестив ноги, и дал знак стражникам: гостя отпустили.
Джабгу сказал:
— Слушай меня, «черный» тюргеш! Я не звал тебя! И твоя весть ничего не значит: через день-другой мои принесли бы ее на своих быстрых конях! Ты виноват передо мной. Степь полна разговоров о твоих грабительских действиях. Разве не ты со своей шайкой угнал кобылиц у почтенного Баглилы?
Один из буюруков злобно осклабился и крикнул:
— Он! Он!
Джабгу продолжал:
— Ты грабишь караваны, проходящие по нашей земле, и тем подрываешь торговлю, а заодно и наши доходы с нее! А теперь ты оскорбил меня в собственной юрте! Ты — дорожный грабитель, опозоривший свой когда-то славный род!
Гость выпрямился:
— Да! Я из славного рода кагана Чабыш-чора Сулука, некогда повелителя «черных» тюргешей, я – Байташ тегин*, а ныне бездомный нищий скиталец! (*Тегин — царевич) Когда-то у меня были косяки быстроногих коней и отары овец. Где они! Их забрали твои люди, Эльтебер! И твои союзники — «желтые» тюргеши. А ведь я веду свое происхождение — пусть от младшей ветви — от Ашина, как и ты, эльтебер! Значит, мы — родственники. Разве справедливо твои люди поступили со мною?
— Меч — высший судья, — отвечал эльтебер. — Ты не покорился мне и был разбит. Имущество побежденных принадлежит победителям. Это справедливо. А теперь — убирайся!
Байташ сузившимися, как у рыси глазами, обежал собрание. Он походил на барса, изготовившегося к прыжку. Однако голос его прозвучал спокойно:
— Я собрался жениться. Но мне нечем заплатить за невесту. Вот я и думал получить за радостную весть награду от тебя, эльтебер-джабгу! По-родственному.
Правитель откинулся на трон. Лицо его излучило торжество: вот он, гордый и заносчивый тюргешский принц Байташ, стоит перед ним в позе нищего просителя! И джабгу сказал:
— Я даю тебе награду — твою собственную жизнь! Эй, кулы! Добавь к этому полмешка проса, полмешканицы. И ферганского урюка четверть мешка. Навьючь на ту хромую кобылу... Пусть забирает — мне не жалко... Я сказал!
«Черный» тюргеш Байташ выехал из лагеря; на луку его седла был намотан повод от прихрамывавшей навьюченной кобылы. Сопровождавшие гвардейцы остановились у крайних юрт и долго смотрели вслед.
Один сказал:
— Такой насмешки Байташ-тегин не простит никогда...
Второй возразил:
— А что он может сделать нашему джабгу? Он — как воробей против орла.
— Однако теперь я даже вдесятером не рискнул бы выехать в степь... Он хорошо запомнил нас, охранявших шатер повелителя, и нашу одежду...
Второй сказал испуганно:
— А чем виноваты мы? Мы — люди маленькие. Что прикажут — то делаем. Пусть в своих делах они сами разбираются.
— Ступка и пестик рассердились друг на друга. Однако целы остались, а просо, что попало между ними, превратилось в талкан.
В СОГДИЙСКОМ СЕЛЕНИИ
С древнейших времен жили-были в оазисах Средней Азии согдийцы-земледельцы, трудолюбивый народ. Да и как земледельцу не быть трудолюбивым? Он привязан к земле. Эту землю он каждую весну разминает между пальцами, унавоживает, поливает водой из арыков собственным потом, а иногда и слезой. А урожая ждет летом. Каждый на своем участке. Такова особенность тех, кто обрабатывает землю и кормит весь мир. Ибо земля не терпит наспех сделанного, временного, непостоянного.
Из года в год, из десятилетия в десятилетие, из века в век жили согдийцы по дедовским обычаям, растили сады, создавали города, сложную систему ирригации, строили храмы, дворцы своих владык и все прочее...
Но вот пришли тюрки-кочевники... Кочевник не привык трудиться на земле. Он не привязан к жалкому клочку. Ему нужны просторы. Перегонять стада с места на место — для этого требуется ловкость, напористость, смелость, наконец, ибо земля не бесконечна и обязательно кому-нибудь принадлежит — земля, необходимая для пастбищ! Значит, ее надо отобрать — ведь стада есть хотят!
Поэтому всегда готов к битве. Арабам тюрки представлялись такими: «Они широколицые, с плоскими носами, с большими руками, в дурном расположении духа» (Абу Дулаф).
У кочевников за века выработалась особая психология: то, что можно добыть кровью, не добывай потом, мозолями! Ибо взятое силой — почетное, славно, приличествует настоящему мужчине. Добытое же мозолями и потом — удел трусливых душ, удел рабов.
История фиксирует: создатели высочайшей культуры еще за полторы тысячи лет до нашей эры — земледельцы.
Лучшие воины, степные рыцари, бесстрашные грабители, оценивающие свою (а тем более чужую) жизнь дешевле плевка — кочевники.
Во время разгула тюркского нашествия в Среднюю Азию местные земледельцы — согдиаты были настолько подавлены лихостью тюркских наездников, что оказались не в состоянии оказать им какое бы то ни было сопротивление. Хотя простой инстинкт самосохранения продиктовал сельским жителям особый вид построек — «кешк». Это нечто вроде примитивного глинобитного «замка» об одной башне (где жила семья) с высоким дувалом.
Но разве запоры, стены и крепкие двери могли спасти хозяина, если дух его ослаб?
...Степной рыцарь Байташ побился об заклад со своим приятелем Тутуком...
...Байташ подскакал на горячем коне к усадьбе согдийца Давана и крикнул:
— Эй, хозяин, выгляни!
— Не выглядывай! — испуганно прошептала жена. Дети притихли, глаза у них стали круглыми, как у совят.
— Э-э-эй! — слышался голос.
— Надо идти, — сказал Даван. — Ведь это тюрк!
— Спаси нас, Анахито и Ахура Мазда,— заплакала жена. В двери кешка послышались сильные удары. Верный пес Вахрам лаял, захлебываясь от злобы. И снаружи тюрк — тоже начал злиться.
Даван отодвинул ставню — внизу бушевал всадник. Он бил тыльной стороной копья в двери:
— Почтенный!... — окликнул Даван.
Тюрк осадил коня, задрал голову... Хорошо бы сейчас его сверху... Наверняка... Но что толку?... За одного убитого примчится отомстить сотня тюрков...
— Эй, тат, вылезай!
«Тат» — презрительное прозвище, которое тюрки дали земледельцам-согдийцам. Тем, кто ковыряет землю, набивает мозоли и всегда стремится к миру. Презренные люди. Рабы.
— Выходи! — бесновался тюрк.
— Почтенный! — Даван унял дрожь ненависти и попытался говорить доброжелательно. — Если тебе или твоему коню требуется еда...
— Выходи!! — завыл тюрк, настроение которого вконец испортилось. — Или я завтра возьму приступом твою башню, жену отдам воинам, детей — торговцам рабами, а тебя ... Выходи!
— Выхожу!...
Даван спустился вниз. Через дверь спросил:
— Если я отдамся тебе в руки, не тронешь семью?
— Не трону! — Всадник сразу успокоился. — Давай, давай, мне некогда.
Хозяин отпер дверь и вышел. Тотчас его захлестнула арканом петля. Жена и дети сверху видели, как главу их семьи разбойник погнал на холм, подбадривая плетью.
...Скоро хозяин вернулся. Он объяснил плачущему семейству:
— Тюрк потребовал с меня выкуп — один медный фельс...
— Фельс? — поразилась жена. — Но ведь за такую монету не купишь даже курицу!
— Более того! — продолжал хозяин. — Когда тюрк получил с меня фельс, он подумал-подумал, разрубил фельс пополам и вернул мне половину... сказал, что я не стою большего... Видно, просто резвились молодцы... Да поразит их Анхра.
Рассказанная выше история случилась неподалеку от города Атлаха в многолюдном согдийском селении. И это несмотря на бесконечные набеги соседей, извечные войны, которые перекатывались через многострадальную Таласскую долину... Жители отличались веселым нравом. Недаром их селение называлось Рамуш, т.е. «радость, веселье». Было у них также еще одно качество — изворотливость, помогавшая выжить в то трудное время.
Однако сейчас, в начале июня 751 года в селении Рамуш веселья мало: оно полно беженцев с Бухарского оазиса до песен ли тут?
Несколько месяцев тому назад весь Бухарский оазис заполыхал в огне восстания. Народ поднялся против своих угнетателей — арабов и местных феодалов-дихкан. Во главе встал бедный араб-шиит Шарих ибн Шейх аль Махри. В течение тридцати семи дней 30000 повстанцев сражались с войском арабского полководца Зияда ибн Салиха и правителя города бухархудата Кутейбы. Повстанцы шли в бой со знаменами, на которых было начертано изречение их вождя: «Не для того мы проливали кровь в борьбе против Омейидов, чтобы стать рабами Аббасидов»*.
(*Аббасиды — династия арабских халифов, обосновывавшая свое право на престол происхождением от Аббаса, дяди Мухаммеда)
Беженцы рассказывали страшные истории. Войско Зияда подошло к городу и стало лагерем у ворот Мох. Несколько штурмов не принесли арабам успеха. Они смогли ворваться в Бухару лишь после того, как в тыл восставшим ударило феодальное ополчение бухархудата Кутейбы. Но и после того сопротивление не было сломлено. Каждая улица и площадь превратились в поле битвы.
Тогда Зияд приказал поджечь город.
Первым загорелся базар Чуба-и-бакалак, где стояло множество деревянных бакалейных лавок. Затем огонь перекинулся на усадьбы богатых купцов — кашкушанов. Пылала вся улица Риндан и улица Каха, мечеть Бану Ханзаль, мастерские-дуканы ремесленников. Загорелся даже знаменитый дворец бухархудатов, построенный на «семи столбах» и повторяющий в плане созвездие Большой Медведицы. Никакие усилия не смогли его потушить, и он сгорел дотла вместе с богатствами бухархудата Кутейбы и его знаменитым троном, сделанным в виде верблюда. Могила Сиявуша у ворот Гуриян была осквернена, а сами ворота тоже сгорели и рухнули.
Когда в пылающих кварталах стало невозможно дышать раскаленным воздухом, повстанцы отступили. Они вышли за пределы города, продолжая сражаться. Но тут в помощь арабам и своему правителю в тыл восставших ударило еще одно, только что подошедшее ополчение богатых дихкан-феодалов: в Бухаре их звали хамуками, т.е. «жемчужинами».
Окруженные со всех сторон, повстанцы подверглись нещадному избиению. По всем 12-ти бухарским каналам плыли трупы. Множество пало в битве, множество сгорело в самом городе. В том числе и вождь Шарих. Тысячи были взяты в плен и повешены или утоплены в канале Аухитраф.
Лишь малой части удалось вырваться из окружения и рассеяться по соседним областям. Беглецы достигли даже Таласской долины, где жили переселенцы-бухарцы, ушедшие сюда еще в прошлом веке от арабских притеснителей.
Немало беженцев оказалось и в селении Рамуш. Жители приняли их с сочувствием — измученных, израненных, обремененных семьями. Ведь это были их земляки! Ибо предки теперешних рамушцев пришли когда-то из Бухарского оазиса, из селения того же имени; по легенде оно было построено Кей-Хосровом, сыном Сиявуша.
* * *
Была и другая забота у жителей селения. Несколько месяцев назад они вскладчину снарядили караван и отправили его в западные страны. Войны — войнами, а обрабатывать землю, растить детей и торговать — неизбывная обязанность человека.
Эта торговая операция обещала изрядную прибыль. Однако сроки возвращения караванщиков давно прошли, а они все не появлялись. И те, кто вложил средства, пребывали в тревоге. Если случилась беда, значит, будет нанесен ущерб не только их имуществу: у многих с караваном отправились близкие люди!
В числе переживающих был и мастер Пастун, известный в округе гончар. Его хумы — сосуды для зерна, миски, кувшины, чаши-пиалы и затейливые светильники-чираги пользовались неизменным спросом. Жил он вполне безбедно — ведь в работе отцу помогали трое взрослых сыновей.
Теперь Пастун ругал себя: зачем ввязался в дальнюю торговлю? Не иначе злой Анхра Майнью нашептал в ночи столь безумную мысль.
Одно только несколько утешало старика: с караваном ушел Барбад — знаменитый музыкант, вскруживший всем девушкам глупые головы от Тараза до Атлаха. Этот Барбад с некоторых пор начал петь слишком нежные песни, из которых, как из опрокинутого кувшина, текла любовная тоска.
Ни для кого не составляло секрета, что причина этой тоски — младшая дочка мастера, пятнадцатилетняя Дугд-гонча.
Пять сыновей и пять дочерей было у Пастуна-бобо. Два старших сына погибли, остальные уже женаты. Замужем и четыре дочери, все хорошо пристроены, слава Ахура Мазде.
Осталась младшая, горе и радость старика. Как правило, самый младший ребенок — избалован. Ведь он последний плод запоздалой любви. Младшего всегда жалеют.
Дочь Пастуна была красива. Подрастая, она становилась все прекраснее и соседи прозвали ее мушкиназ — «нежная, как мускус». Это новое имя со временем настолько закрепилось за девушкой, что никто уже не вспоминал ее прежнее имя, даже родители.
И еще одно качество отличало младшую дочь Пастуна от прочих: она умела танцевать, как никто другой. Танцевать могли все женщины селения, как везде и повсюду, но это совсем не то! Когда в танце плыла «Нежная, как мускус», у юношей горели лица, а старики и старухи с умилением вытирали глаза: до чего же берет за душу! Не иначе этот дар ниспослала девчонке сама Анахита!
И вот нищий музыкант, пусть даже и хороший, вдруг предъявил некие права на такое сокровище! А ведь у самого — ни кола, ни двора, как говорится; и живет-то тем, что ходит по праздничным сборищам, свадьбам и поминкам и услаждает своей игрой слух людской! Разве получится из него самостоятельный хозяин?
А хуже всего, что и дочь к этому перекати-полю казалась не совсем равнодушной...
И Пастун втайне думал: если что плохое случилось — Барбад не вернется. Старик и сам стеснялся этих грешных мыслей: разве Ахура Мазда одобрит такое?..
... В тот памятный вечер почтенные кетхуды — главы семейства, как обычно, собрались на площади селения, чтобы в десятый раз обсудить предполагаемые причины задержки каравана.
Но тут непредвиденное событие направило мысли собрания совсем в другую сторону... Ведь злой Анхра Майнью всегда готов нарушить порядок, установленный добрым Ахура Маздой...
БРАЧНЫЙ ДОГОВОР
По вечерней пыльной улице между усадьбами простучали копыта, и перед стариками предстал тюркский воин на золотистом тулпаре. Он спешился, бросил поводья (конь стоял как вкопанный, лишь помахивал хвостом, отгоняя комаров) и вразвалку направился к собранию.
Присутствующие, вытянув шеи, наблюдали за тюрком словно завороженные. Еще бы! Кто не знал Байташ-тегина, грозы степей! Из всех степных алпов-богатырей он был самым бесстрашным и дерзким.
К тому же из очень знатного рода: еще каких-то двенадцать лет назад всем этим краем правил его двоюродный дядя каган Сулук Чабыш-чор из рода «черных» тюргешей. Сулук прославился как неистовый воитель против арабов. Много раз он бил этих пришельцев с запада, принесших с собой веру в Аллаха и его пророка; за это они прозвали его Абу Музахим — «Бодающийся».
Потом Сулука убил, подкравшись ночью, предводитель рода «желтых» тюргешей Баха-тархан. Но Баха-тархан недолго правил. Его разгромил и взял в плен арабский наместник Хорасина Наср ибн Сейяр. А потом убил и даже труп сжег, что считалось большим унижением, несчастьем.
Несколько лет назад возвысились новые кочевые племена — карлуки. С востока пришли еще одни захватчики — табгачи (китайцы).
И теперь все окрестные земли беспрестанно переходят из рук в руки. И каждый новый господин спешит поскорей собрать налоги в свою пользу.
Все эти войны и противоборствования сделали принца из бывшего правящего дома степным бродягой, предводителем грабительских шаек, не признававших ничьей власти. Опасный человек!
Почтенный Даван, присутствовавший здесь, сразу узнал своего давнего обидчика: это он оценил голову кетхуды в половину медного фельса.
Что же нужно этому разбойнику?
На этот раз вид у тюрка был совсем не воинственный. Лицо его было угрюмо (ну, это в обычае у тюрков). Многие даже подметили некое затаенное страдание в его резких чертах.
Он вежливо поклонился. (Удивительно!).
Собрание многоголово закивало в ответ. Освободили почетное место и гость сел. Глаза его обежали присутствующих (Даван поежился) и остановились на мастере Пастуне.
— Отец! — обратился к нему тюрк. — Я приехал по очень важному делу: отдай за меня дочь!
Собрание было ошарашено таким неожиданным предложением. Все молчали. Наконец, Пастун сказал:
— Но мои четыре дочери уже замужем...
— Есть еще пятая, — прервал тюрк. — И она прекрасна.
— Где ты видел мою дочь! — изумился гончар.
— Видел, — кратко отвечал Байташ-тегин. — На вашем празднике. Я был в другой одежде, — пояснил он.
Пастун выражал всем своим видом полную растерянность.
— Но она еще молода...
— Ничуть. Ей уже пятнадцать, я знаю. Так как же?
— Высокородный! — Пастун собрался с духом. — Но разве важные вопросы решаются сгоряча? Надо все обдумать.
— А что тут думать? Скажи «да» или скажи «нет». Если ты беспокоишься о выкупе, то назначь сам цену. Любое твое желание я приму без возражений.
Такая покладистость грозного воителя несколько успокоила Пастуна. Остальные с величайшим напряжением, затаив дыхание, следили за разговором. На их глазах совершалось неслыханное: тюркский принц сватался к дочке гончара!
«Скажи «нет!» — лихорадочно думал старый гончар. — А назавтра он и дочь украдет, да еще и обратит мою судьбу в дым!».
К тому же в сознании пробивалась горделивая мысль: шутка ли — не кто-нибудь — принц!
— Так как же! — нетерпеливо повторил Байташ-тегин.
— Но ведь это... это не по обычаю, — вырвалось у Пастуна. Чуя, что тонет, он хватался за последнюю соломинку. — Явился под вечер, когда начинают брать власть силы тьмы и добрые люди... Без сватов, без выкупа. Да что у меня дочь, коза приблудная, да? А брачный договор? А...
— У тебя пять сыновей, — перебил тюрк. — Одного убили табгачи, другого — арабы. Осталось три. Не думаешь ли ты, что и они могут погибнуть? Если же я породнюсь с тобой, то семья твоя приобретет надежного защитника.
«Это верно»,— подумал Пастун, закашлялся и кашлял долго.
«Он умеет делать свои дела. С ним и впрямь не пропадешь».
— Хорошо, — наконец, сказал он (по собранию прошелестел еле слышный вздох). — Хорошо. Но я должен потребовать с тебя, если твоя милость позволит, — большой калым. Иначе это было бы унижением столь высокородного жениха.
— Говори!
Пастун приосанился:
— Ты должен дать мне четырех верблюдов (по числу сторон света). И чтобы на спине каждого был тюк с товарами, соответствующими этим сторонам...
— О-о-о! — прошелестело собрание.
Пастун горделиво посмотрел на соседей:
— Разве моя дочь не достойна этого? И разве такой выкуп не прибавит чести для могучего высокородного принца?
Гость поднялся и тихо свистнул. Конь звякнул удилами и подбежал к хозяину.
Байташ-тегин мрачно ответил:
— Будет тебе калым.
Сел на коня и уехал.
После отъезда Байташ-тегина на площади поднялась целая буря.
— Ты хочешь породниться с потомком Афросиаба, убийцы Сиявуша? — кричал Даван и кое-кто вторил ему.
— Чего ты озлобился? — ядовито парировал гончар. — Ведь он должен тебе всего полфельса.
Подал голос деревенский маг — крец, дотоле молчавший. Маг, как ему и положено, был самым ярым ревнителем исконной веры согдиатов — маздеизма и потому всегда противился смешению с иноверцами. Закрыв глаза, начал он читать по памяти священный текст из «Авесты»:
— «... В качестве второй, лучшей из областей и стран я, Ахура Мазда создал Гаву, обитель согдийцев. Во вред ей Анхра Майнью Смертоносный произвел несущих гибель скифов... В качестве третьей лучшей из областей и стран я, Ахура Мазда, создал Маргиану, сильную, преданную Арта-Правде. Во вред ей Анхра Майнью смертоносный произвел народ мардов... Я создал Бактрию Прекрасную с разбросанными поселениями... Во вред им Анхра Майнью произвел народ дербиков...».
Жрец открыл глаза — синие-синие, как два горных озера в летний безоблачный день и окинул взглядом притихших односельчан. Голос его зазвучал трагически-торжественно:
— Братья! От истоков Бытия враждуют между собой два начала; Свет и Мрак, Добро и Зло, Правда и Кривда, Мир и Война, земледельцы и скотоводы. У наших предков было много врагов, носивших разные имена: скифы, массагеты, марды, дорбики... У нас их тоже не меньше. Злая сила одолевает. Но помните: на нашей стороне благородный Сиявуш, на их — мрачный Афросиаб...И еще не забудьте мудрость веков: «Кто возделывает хлеб, тот возделывает правду...». Возблагодарим же великого Заратуштру из Раги, принесшего нам свет знания и помянем в наших молитвах его покровителя, лучшего из царей — Кази Виштаспу Бактрийского. Молитесь Ахура Мазде, люди!
— Ты прав и неправ, благородный маг. Да, скотоводы — тюрки вечно притесняли нас. Но теперь времена меняются. Меняются и дела вместе с ними. Разве не установил каган тюргешей (а теперь карлукский джабгу) справедливый на лог? Разве меньше мы платим нашим единоверцам – царю Гуреку Самаркандскому и владетелю Шаша? И разве только скотоводы бывают нам враждебны? А табгачи, пришедшие с востока? Или те же арабы с их новой верой? Не враждовать, а объединяться надо нам с кочевниками. Вон сколько их уже осело и превратилось в горожан... Хотя бы в том же Атлахе, или Таразе. И браки между земледельцами и скотоводами сейчас — обычное дело: от таких браков произошел целый народ — аргу...
Большинство поддержало гончара:
— Торговать с кочевниками выгоднее, чем воевать.
Жрец скорбно смотрел на односельчан: где прежняя сплоченность? Где единодушие? Даже здесь, в малом селении, нет больше согдийцев: есть сторонники арабов, китайцев, тюрков...
«Ахура Маздра, защити нас от нас самих!...»
В АРАБСКОМ ЛАГЕРЕ
Раннее летнее утро. Коршун вылетел из-за холма и величественно поплыл в восходящем потоке струй, зорко оглядывая землю.
Там, внизу, у горной речки, где всегда было пустынно, он увидел множество пестрых шатров, а между ними — снующие фигурки. Чуть доносилось конское ржание, скраденное расстоянием.
Коршун взмыл повыше и стал делать круги. Он знал: там, где люди, всегда есть, чем поживиться.
Огромный арабский лагерь возник в долине, словно по волшебству. Еще вчера здесь ничего не было. Еще вчера арабы находились в десяти фарсангах отсюда. А теперь — вот здесь...
Стремительность арабского войска — одна из причин их военных удач.
Кто же такие эти завоеватели до гор Тянь-Шаня и долин Искании? Удивительный феномен арабов вот уже несколько веков будоражит воображение историков.
В 612 г. скромный погонщик караванов житель города Мекки, сорокалетний Мухаммед начал проповедовать новую религию. В 622 г., спасаясь от гонений, переселился в город Ятриб. А еще через 10 лет, к году своей смерти в 632 г. он был уже настолько знаменит, что его последователи — мусульмане стали вести свое летоисчисление с момента его переселения (хиджры), а сам Ятриб переименовали в Медину (Медина эль Наби) — означает город пророка.
Ислам распространялся стремительно, как пожар. Обездоленные и богачи, скромники и честолюбцы, робкие труженики и воинственные фарисы — каждый находил в новой вере изюминку для себя.
Мухаммед-пророк объявил всех принявших ислам братьями. Это означало: взаимопомощь, конец всякой междоусобной вражды. Перед племенами бедуинов, скитавшихся в бесплодных пустынях раскаленного Аравийского полуострова, возникли новые горизонты. Вместо бесконечных усобиц, когда одно нищее племя грабит другое, такое же нищее, посланник Аллаха призвал всех арабов объединиться и пронести истинную веру по свету, в сказочные страны с райскими зелеными кущами, полноводными реками и всяческим изобилием жизненных благ. Имущество неверных по праву должно принадлежать им, покорным истинному Богу.
И произошло удивительное. Арабские племена, собранные в единый могучий кулак, обрушились на ничего не подозревавших соседей, словно карающая десница. Напор их был поистине сокрушительным. За несколько десятилетий они покорили Египет, Сирию, Палестину, страны Магриба, сасанидский Иран. Их войска стояли под стенами Константинополя. Копыта их лошадей омыли воды Гибралтарского пролива. Зеленое знамя пророка с романтическим полумесяцем развевалось на островах Средиземного моря и по ту сторону Пиренеев — в самом сердце Европы.
На глазах потрясенного человечества возникла мировая держава — Дамасский халифат...
Вслед за покоренным Ираном настала очередь Средней Азии. В 651 г. арабам без боя сдался Мерв. В 706 г. военачальник Кутейба захватил Балх.
Затем началось планомерное завоевание Мавераннахра — так арабы называли земли севернее Джейхуна (Аму-Дарьи).
Здесь они встретили упорное сопротивление согдийцев. Царь Гурек (710-738 гг.) в течение всего царствования вел с ними борьбу с переменным успехом. Арабы захватили и разграбили Пайкенд. Владетель Пянджикента Диваштич был ими пленен и распят. В конце концов, города прекрасной Согдианы и Бухарского оашса вынуждены были открыть перед ними ворота.
Но тут включились в борьбу кочевые тюркские племена. Тюргешский каган Сулук не раз наносил захватчикам поражения, за что они и прозвали его — Абу Музахим («Бодающийся»).
В 750 году внутри халифата произошли значительные события: смена династий, смена эпох. Аббасид Абу-л-Аббас устроил поголовное избиение царствующего рода Омейядов. Погибло множество. Спасся лишь принц Аб-дуррахман, бежавший в Испанию. Там он основал Кордовский эмират, ставший впоследствии халифатом — средоточием блестящей арабской средневековой культуры.
В Средней Азии от имени Аббасидов действовал их эмиссар, наместник Хорасана — перс Абу Муслим, в прошлом раб. Экспансия арабов продолжалась.
Но к тому времени на среднеазиатской арене появилась новая сила. Войска Поднебесной — так официально называлась средневековая китайская империя династии Тан — вступили на территорию Тянь-Шаня. В 748 г. они захватили столицу кочевников в Чуйской долине г. Суяб и разрушили его. В 749 г. они взяли в плен и казнили владетеля Чача*. (*Чач — по-китайски «Ветка тутовника» (нынешн. Ташкент) Сын казненного обратился за помощью к Абу Муслиму.
Тот не упустил случая и послал на восток армию под командованием Зияда ибн Салиха.
И вот теперь в июне-июле 751 г. войска двух мировых империй двигались к Таласской долине навстречу друг Другу...
И лихая же десятка разведчиков была у Хакима-сар-ханга*. (*Сарханг — нечто вроде сержанта; десятник)
Обычно арабы сражались, построившись по племенам и родам; эти же все происходили из разных племен и давно утеряли связь с родичами.
В чем причина? Об этом, может быть, дадут кое-какое представление прозвища, которыми они наградили друг друга.
Вот, например, самый высокий и тощий в десятке — Лакам. В переводе с арабского означает «проталкивающий», т.е. тот, кто, держа один кусок во рту, проталкивает его вторым, не удосужившись разжевать первый.
Или: Массас — «Высасывающий». Он имел привычку выхватывать из общего котла трубчатую кость и высасывать из нее мозг прежде, чем спохватятся сотрапезники.
У третьего прозвище было тоже ничего себе: Мухалким. Он имел обыкновение разговаривать с набитым ртом, отчего крошки и брызги летели в физиономию собеседника.
Четвертый — «Мусаввич» — («Запивающий») — не утруждал себя разговорами во время еды: он хватал такие большие куски, что давился ими, и тогда на помощь приходила чашка с водой.
Следующего звали Латта («Облизывающий»). Этот вел себя и вовсе непристойно: запускал палец в кашу, облизывал его и вновь запускал в общий котел...
Был тут и Маддаб — «Тянущий»: по свидетельству аль-джахиза, это тот, кто, взяв в зубы жилу, тянет ее что есть силы рукою ото рта: жила рвется и забрызгивает вокруг сидящих.
Но хватит гастрономических прозвищ!
Были еще в десятке сарханга два названных брата: аль-Бакка («Плакальщик») и Даххак («Смеющийся»). И последним назовем 18-летнего Хашима, сына самого Сарханга. Юноша славился справедливостью и честностью. Поэтому ему частенько поручали готовить и делить пищу. Когда припасов было мало, Хашим делал тюрю: крошенный в воду хлеб, сдобренный маслом. Может быть, и отсюда его имя: Хашим — «крошитель»? его удивительной судьбе мы упомянем чуть позже...
В этот вечер десятка сарханга решила устроить пир. Для этого нашлась веская причина: кувшин вина, захваченный в качестве трофея в одной брошенной усадьбе. И хотя Коран запрещает правоверным пьянство, разве нельзя сделать послабление для воинов, денно и нощно рискующих жизнью?
Приготовить угощение, как всегда, поручили юному Хашиму. Остальные разбрелись по лагерю, коротая время.
Юный Хашим решил побаловать друзей асыдой — густой кашей, приготовленной из муки, заваренной кипятком и сдобренной медом и маслом. Все составные части этого лакомства, а также дрова имелись под рукой. И он с вдохновением взялся за дело. Он всегда испытывал необыкновенное удовольствие, заботясь о других.
...Откуда-то вынырнул Латта. Подошел к котлу, воровато оглянулся по сторонам и запустил пятерню в казан.
Хашим, возмущенный увиденным, выскочил из палатки и закричал сердито:
— Что это такое? Почему ты запускаешь в еду все пять пальцев?
Латта оторопел (улика-то налицо!). Пробормотал растерянно:
— А сколько я еще могу запустить? Ведь я не шестипалый.
— Послушай, есть ли у тебя хоть один друг?
— Один у меня друг — еда...
Латта быстро сунул горсть в рот:
— Не бросать же обратно, — бормотал он с набитым ртом.
Хашим смотрел на него с горестным недоумением:
— И человеком-то тебя нельзя назвать...
Латта кое-как проглотил, давясь, кашу и ответил виновато:
— Хорошо тебе говорить! Ты родился в семье сарханга и никогда не испытывал голода. Мой же отец был рабом и сколько я себя помню, я всегда голодал. Я всегда хотел есть. Я мечтал хоть раз наесться досыта! Аллах свидетель, только здесь, в войске, я почувствовал, что могу кое-как утолить голод... Но жадность к пище вошла в мою кровь... Прости меня, брат...
Хашим впервые услышал от Латты подробности его биографии.
— Я действительно никогда не испытывал особенного голода...
Он положил в деревянную миску целый черпак и подал Латте:
— Сегодня его много... На всех хватит.
— Нет, нет! — Латта отталкивал миску, но глаза его горели...
Наконец, собрались все. Пир удался на славу. Подобревшие сытые разведчики угостили даже несколько человек из других десяток.
После выпитого вина завязался разговор. Аль-Бакка спросил Даххака:
— Как ты думаешь, ушел ли довольным от нас святой месяц поста Рамазан?
— Еще бы ему не быть довольным!
— А как ты это докажешь?
— Потерпи год и ты убедишься: он опять к нам пожалует, этот святой пост Рамазан. А если б он не был довольным, пришел ли бы он снова?
Все шумно одобрили ответ «Смеющегося».
— До следующего года еще дожить надо,— заметил Хаким-сарханг.
— Половина наверняка доживет, — беспечно сказал Даххак.
— Прах тебе в рот, предсказатель черноты! — закричали остальные.
Тут вступил в разговор обычно молчаливый Массас — «Вымывающий»:
— Когда мы жили с матерью в селении Мухаррам, то нас считали за удивительных предсказателей. Все, что мы ни предскажем, исполнялось.
— И хвастун же ты!
— Аллах свидетель! Вот, к примеру, о погоде: показывается туча. У нас спрашивают: будет дождь или нет? Мать говорит: «будет!». А я — «нет!» И обязательно сбывается — или то, что я предсказал, или то, что она...
В это время раздался голос муэдзина, призывающий на молитву. Все тотчас совершили омовение из кувшинов, расстелили молитвенные коврики... Только Даххак замешкался.
По окончании молитвы Хаким-сарханг сказал:
— Послушай, «Смеющийся». Был ли ты хоть раз первым в каком-нибудь деле?
— В одном деле я всегда первый, — ответил Даххак. — Из мечети я раньше всех выхожу. Особенно, когда в ней с минбара вещает наш имам аль-Харши. Правда, зато прихожу я в нее позже всех...
Ударили барабаны: «отходко сну». Хаким-сарханг сказал:
— Все по палаткам. Спать! Да удалит от нас Аллах все дурное!
Скоро арабский лагерь затих. Звездная ночь плыла над миром...
ВИДЕНИЯ ГАО СЯНЬЧЖИ
В 11-й год «Тяньбао» войска Поднебесной империи по приказу сына Неба, дракона — государя Сюань-Цзуна из династии Тан...
Короче говоря, танская армия, выступив из Суяба к Таразу, двигалась чрезвычайно медленно. Разноязыкие пехотные и кавалерийские части, в которых за время бездействия значительно ослабла дисциплина, громоздкие обозы: маркитанты-торговцы, множество обслуживавшего люда, быки, ослы, мулы, верблюды, повозки — все это оказалось неповоротливым скопищем на марше.
А зачем спешить? Главнокомандующий Гао Сяньчжи был уверен в своей силе. Сто тысяч бойцов — кто может противостоять им? Он даже мысли не допускал такой. Любой противник будет смыт и уничтожен доблестными войсками Поднебесной.
За паланкином главнокомандующего шел его личный обоз: десятки повозок везли роскошные спальные принадлежности, кухонную посуду, изысканный провиант — под присмотром поваров. Тут же следовали пленные согдийские танцовщицы и оркестр музыкантов из Кучи — главнокомандующий без музыки не мог прожить и дня.
Личная гвардия охраняла все эти богатства от жадных взоров собственных солдат.
В день проходили несколько ли*. (*Ли — 0,3 км)
В жару разбивали бивуаки и в степи тотчас возникал палаточный город. Дымились костры, дрожало в воздухе пахучее марево от трещавших жаровен и сковородок.
Солдаты скучали. Одни чинили поизносившиеся одежды, наводили глянец на доспехи, чистили оружие. Дру¬гие играли в кости или слонялись просто так.
У многих душа тосковала по родным местам. Все здесь чужое, все надоело. Те, кто были родом из Чанъани, без конца вспоминали столичную жизнь, веселые кварталы Пинкан и Люэсань, где жили гетеры. Вспоминали веселые праздники, новогоднюю иллюминацию, знаменитое искусственное «огненное дерево» на главной площади: оно было украшено вышивками и драгоценными металлами. На его ветвях горело пятьдесят тысяч чаш-светильников. Тысяча красавиц с цветами-шпильками в черных кудрях присматривали за ним.
Все улицы были уставлены рядами восковых свечей, и ночь напролет люди веселились...
А здесь только звезды над головой да крики ночных птиц...
Тосковали по родине и провинциалы: — У нашей семьи в Шандуне три цина земли... Зачем было идти в войска?..
За три года, проведенные в этих краях, никто не обогатился. Зато многие получили раны, другие и вовсе ли¬шились жизни — «ушли к желтым истокам». Зачем?.. Кому это нужно?..
Лишь малая часть солдат — из тех, у кого на родине не осталось ни дома, ни земли, ни родни, а также наемные отряды северных кочевников не желали возвращения: война обещала добычу.
Главнокомандующий Гао Сяньчжин был настроен точно так же, как и большинство его солдат. Чач, Суяб и вся страна ему давно прискучили.
...Роскошен громадный шатер главнокомандующего! Струящийся шелк с вытканными драконами составляет его стены. Высокие деревянные колонны подпирают потолок. Занавесы, украшенные золотом и перьями зимородка, разделяют шатер на две половины. В первой — приемная, где проводились военные советы. Во второй — личные покои. Он любил уединяться здесь от воинских забот, когда накатывала тоска...
По своей природе Гао Сяньчжи был склонен к меланхолии. Его ужасала быстротечность времени; яркие вос¬поминания обостряли ностальгию: он как бы жил в прошлом.
Еще совсем маленьким мальчиком отец, бежавший от гнева государя Силы, вывез его с родины. Маленький Гао, носивший тогда совсем другое имя, смутно помнил Кенч-жу — столицу корейских правителей. Большой пышный город, разделенный прямыми перекрещивающимися улицами на кварталы. Он раскинулся в котловине, окруженной горами; по горам вились стены с башнями. Еще припоминалась освещенная гора Тхохамсан, а на ней — пещерный храм Соккуль-ам с рельефными замечательными скульптурами...
Долго помнил он и «Башню для наблюдения звезд» недалеко от столицы, на которой побывали они с отцом поздно ночью. Мальчика всегда укладывали спать рано, поэтому впервые увиденный звездный мир, опрокинутый над головой, поразил его детскую душу.
С годами эти воспоминания все тускнели и тускнели... Их вытеснили иные видения...
Частенько лицо его темнело, становилось сумрачным, словно гора Хаоминшань поздней осенью, когда ветер гонит над ее вершиной черные мохнатые тучи... Тогда военачальники без крайней нужды старались не попадаться ему на глаза...
Однако никто и предположить не мог причину тоски...
Это случилось несколько лет назад. Сын корейского эмигранта благодаря своим способностям, уже в те годы достиг немалых чинов и находился среди придворных штата императора Сюань-Цзуна.
...Как-то на пиру в Западном дворце Императорского знамени, Гао Сяньчжи, веселый и довольный тем, что находится среди знаменитых сановников и принцев, увидел входящего Сына Неба... Все почтительно встали... Император милостиво кивал головой и улыбался... Сановники вновь заняли свои места... Только Гао все стоял, словно одинокая пагода в поле: он очнулся, когда его дернули за рукав... И в продолжение всего пира бросал взгляды туда, где находился император...
Но не на повелителя он смотрел — на юную девушку рядом с ним.
С чем сравнить ее белоснежное лицо? А эти брови? А смеющийся алый рот?
Она была прекраснее Ли*, обворожительнее Сяо**.
(*Ли — супруга Ханьского Императора У-ди, прославленная красавица древности)
(**Сяо — имя, ставшее символом красивой девушки)
Потом он узнал ее имя — «фаворитка Мэй» («Слива»). Так прозвал ее сам Мин Хуан*, за любовь к цветущим сливовым деревьям... (*Мин Хуан — имя императора Сюань-Цзуна)
У императора было три первых жены, девять вторых, двадцать семь третьих и восемьдесят одна четвертая. Сорок тысяч наложниц обитало в трех дворцах Чаньани и в двух дворцах Восточной столицы — Лояне. И все они были забыты ради Мэй...
...А потом для фаворитки настали черные времена. Евнух Гао Ли-ши (любимец императора, крупный политический деятель того времени) раздобыл ослепительную звезду — Ян Гуй Фей, прозванную впоследствии Тай-Чжень («Великая святая»). Новая фаворитка вскоре полностью овладела сердцем императора. Ее родственники заняли высшие должности в государстве.
Танский новеллист Чен Кун передает: «Род Ян Гуй Фей славился и знатностью и богатством, одежда, экипажи, лошади ее родных...
В конце годов «Тяньбао» Го-Чжун, родной брат фаворитки, пролезший на должность главного советника, распоряжался государственными делами, как хотел...
Состарившийся император теперь единственный смысл и радость жизни находил лишь в обществе Тай Чжень, в ее улыбке, милых шутках и т.д.
По всей империи супружеские пары не мечтали больше о сыновьях — пусть лучше родится дочка, подобная Ян Гуй Фей!
«Великая святая» оказалась ревнивицей. Ее властному, напористому характеру ничего не смогла противопоставить мягкая, уступчивая Мэй. И она была сослана в Северный дворец Шангян. Там ей представилась возможность сколько угодно изливать тоску в стихах и поэмах, которые вскоре широко распространились.
Гао Сяньчжи обладал книгой, в которой все семь поэм «фаворитки Мэй» были запечатлены письмом Иду*, дабы никто не смог прочесть и узнать его тайну. Ведь Ян Гуй Фей жестоко преследовала тех, кто склонялся перед ее соперницей. (*Письмо Иду — первая система корейской письменности)
Полководец, уединяясь, перечитывал эти поэмы и печально размышлял: почему судьба так жестока? Разве у него мало женщин? Зачем же он мучается лишь одним образом, для него недоступным?
И тогда он призывал флейтисток, певиц и приказывал им исполнить мелодию «флейта инородца» или знаменитую песню «Одно ху* жемчуга», слова которой сочинила Она — красавица Мэй... (*Ху — мера объема, более 51 л)
Пехотинец Чжан Лао происходил из Путяна. Когда стали набирать солдат для войны на востоке по всем 634-м военным округам, забрали и его, молодого мастера по из¬готовлению бумаги.
А еще Чжан умел замечательно играть на флейте. Этому он научился у матери, преподававшей в одном из цзяотаней* Чандани. (*Цзяотан — школа музыки и танцев)
Соседями их была семья Цзян. Глава ее Чжун-сун славился как искусный врач и неплохо зарабатывал. Поэтому у него была возможность холить и лелеять свою единственную дочку. Она не знала черной работы, от которой грубеют руки, искажается фигура и слезятся глаза.
Она выросла настоящей красавицей, хоть и была еще очень молода.
Дочка Цзянов часто проводила время в своем сливовом саду — она безумно любила сливы в пору их цвете¬ния. И с некоторых пор ей стала очень нравиться флейта Чжана Лао.
Молодые люди украдкой познакомились — через забор. Чжан был на три года старше своей соседки; оба еще слишком юные, чтобы совершить что-либо предосудительное, они относились друг к другу с глубокой нежностью, скорее как брат и сестра.
Родители, узнав об этом, не стали наказывать детей: обе семьи занимали примерно одинаковое положение в обществе, поэтому для брака препятствий не нашлось.
Поговаривали о скорой свадьбе.
Но тут князь ада Янъло (не иначе!) прислал в Путян евнуха Гао Ли-ши, любимца императора. Евнух искал красавиц для императорского гарема.
Дочь Цзянов только-только стала заказывать прическу (т.е. ей исполнилось пятнадцать лет). Когда Гао Лиши увидел ее, он понял, что нашел сокровище.
Состоялась сделка. Родители получили изрядное богатство, а их истинное, единственное богатство было увезено в Чанчань «служить у подушки» (т.е. стать наложницей) императора.
Горю Чжана Лао не было предела. Вид соседей доводил его до исступления. Он хотел наложить на себя руки. Соседи вскоре переехали: купили роскошный дом и стали жить на широкую ногу.
Время шло. Двадцать четыре сезона (по китайскому календарю год делится на 24 сезона) менялись другими 24-мя, а Чжан оставался холостяком, несмотря на все просьбы родителей.
До Путяна уже донеслись слухи о том, что дочка Цзя-на стала любимицей Мин Хуана, что она проводит время на пирах вместе с ним и что Сын Неба в ней души не чает и зовет ее «фавориткой Мэй» («Сливой»). Он даже велел посадить целую сливовую рощу — в угоду своей возлюбленной.
Слышать все это Чжану было нестерпимо. Хотя он и понимал: для его любимой настала совсем не та жизнь, какую бы он мог ей предложить...
Наконец, когда три года назад военные чиновники — угуани производили набор солдат, он пошел служить, вопреки воле родителей...
...Пересекая как-то лагерь в роскошных носилках, главнокомандующий вдруг встрепенулся: его изощренный слух поразила доносившаяся откуда-то издалека чуть слышимая мелодия... Он узнал ее...
Тотчас было велено разыскать игравшего солдата. Привели немного испуганного Чжана Лао.
— Это ты играл? — сумрачно спросил полководец.
— Да, великий господин.
— А знаешь ли ты, что это такое?
— Да, великий господин. Это мелодия песни «Одно ху жемчуга».
— А знаешь, кто сочинил слова этой песни?
Солдат опустил глаза.
— Откуда мне знать, великий господин?
Однако весь вид его говорил: врет.
Полководец приказал Чжану явиться в его шатер назавтра.
А назавтра Чжан Лао был зачислен в личную охрану Гао Сяньчжи.
...Теперь частенько, когда подкатывала тоска, полководец вызывал своего телохранителя и приказывал поиграть... И всегда одну-единственную мелодию. А сам шепотом повторял слова...
...Как-то в порыве откровения он сказал:
— Знаешь ли ты, верный мой Чжан, что мелодию эту написали придворные музыканты на стихи... «фаворитки Мэй»?
Солдат опустил глаза:
— Знаю, великий господин.
Разговорившись, почти как равный с равным (что было необычным и для высокомерного аристократа Гао Сянь-чжи и застенчивого простолюдина Чжана Лао... Два тоскующих воина нашли общий язык... Тут еще помогло согдийское сладкое вино и гаоляновая водка... Они рассказали друг другу почти все — о любви безответной. Гао Сяньчжи говорил:
— Теперь лепесток сливы в опале. Я не знаю, радоваться этому или огорчаться. Но плохо, когда Поднебесной управляет случайные люди, все эти дядья и братья Ян Гуй Фей...
Спохватившись, что сболтнул лишнее, полководец пристально посмотрел солдату в глаза. Тот ответил прямым и открытым взглядом:
— Я ваш верный слуга и телохранитель, великий господин. Разве я похож на доносчика?
Гао успокоился. Но отныне не спускал глаз со своего телохранителя и всегда держал его при себе.
Вскоре Чжан Лао получил большое повышение — стал командиром сотни из личной охраны полководца...
Признательность и верность его возросли. Но он не знал, что в его сотне есть два младших командира, которые следят за каждым его шагом: при первом же подозрительном поступке им велено убить своего начальника...
ПРАЗДНИК «ЗВЕЗДЫ ДОЖДЯ»
Середина лета — самое засушливое время года. Жара стоит удручающая. На небе — ни облачка. Даже засухоустойчивый тутовник в изнеможении опустил свои полузавядшие листья. «Пить! Пить!» — просит земля. «Пить! Пить!»— вторят деревья и травы...
Но что это за шум в селении Рамуш? Вон живописные группы юношей и девушек бегают вдоль арыка и обливают друг дружку водой. Громкий смех, веселое повизгивание... Э!... Да ведь сегодня справляется праздник, самый веселый праздник иранского мира — в честь «Звезды дождя» Тиштрии (Сириуса)! Восход этой звезды на иранском небосводе означает начало долгожданного сезона дождей.
(Этот праздник — «Абпашон» — дожил с седой древности до наших дней в Таджикистане).
Молодежь веселится вовсю, но и солидные степенные люди по-своему дурачатся.
Деревенскому старосте Давану предложили соседи:
— Давай взвесим, у кого борода тяжелее! (А борода у Давана — самая длинная, зато не очень густая).
— А как? Не отделишь ведь ее от подбородка!
— Э! Пустяки.
Сейчас же принесли весы. Каждый вставал на колени, клал свою бороду на чашу, а веселый Бухлюль — весовщик восклицал:
— Пол-сира! Три четверти сира! О! Целый сир! – это относилось к бороде мастера Пастуна.
Даже вечно печальные беженцы сегодня развеселились. Большинство из них, лишившись имущества, нанялось в батраки к рамушцам. Лишь у некоторых еще сохранились бухарские серебряные монеты с изображением бу-хархудата Канна, современника халифа Абу Бекра Сыддыка...
Беженцы вспоминали достопримечательности родного города: ворота моабид, где похоронен Афросиаб — олицетворение враждебного кочевого мира; ворожа Гуриан, где покоится прах светлого Сиявуша... музыканты и певцы исполнили в честь Сиявуша песни «Кин-и-Сиявуш» («Борода Сиявуша»). Чувствовалось: ох, как тоскуют по родине эти бедные люди!...
В самый разгар веселья по главной улице проследовал небольшой караван из четырех верблюдов. На спине каждого покачивались по два внушительных тюка.
Впереди ехал стройный всадник на золотистом коне.
Словно на крыльях ветерка, пронесся слух: «Байташ-тегин»! «Черный тюргеш»!..
Всадник подъехал к усадьбе мастера Пастуна, спешился, привязал повод от переднего верблюда к одинокой шелковице и уселся в холодке. Казалось, он собирался ждать долго.
Очень скоро из-за ближнего угла вывернулся старый гончар.
Одетый в праздничный легкий халат и белую, с вырезом на груди, рубаху, шествовал он торжественно, не спе¬ша, как и подобает кетхуде.
Однако пот, струившийся по смуглому лицу, и прерывистое дыхание говорили о другом.
— Отец! — сказал Байташ. — Я доставил то, что ты требовал.
Свадьбу — по согдийскому обычаю — справляли всем селением. Угощения хватило на всех. Еще бы! Двое пастухов пригнали отару овец в сотню голов — тоже подарок жениха.
Половина из этой сотни пошла в праздничный плов, а другую половину гончар заботливо укрыл в своем загоне.
Вот уж когда селение Ромуш оправдало свое название. Веселились все. За исключением молодых парней — те выглядели задумчивыми.
Все понимали, какую огромную выгоду получает селение, породнившись с такой важной птицей. Теперь у них есть защитник! За ним надежней, чем за крепостной стеной.
Только парни думали иначе. По их мнению, никто не спрашивал, как никто не интересовался чувствами одного из главных действующих лиц торжества — невесты...
Не будем рассказывать о согдийской свадьбе, ибо пришлось бы повторяться. Ведь о подобном торжестве уже поведано в повести «Путешествие Земарха».
Немного удивляло одно: почему столь высокорожденный тюрк прибыл без слуг, без аксакалов, без дружинников?
Однако, хорошенько рассудив, удивляться перестали.
Во-первых, Байташ — изгой. Конечно, у него есть богатые и знатные родичи. Но ходят слухи, что он давно перессорился с ними. А теперь, к тому же, берет в жены простую девушку, чего родичи не одобрят. Это — во-вторых. И, в-третьих, сем известен апризный и взбалмошный нрав Байташ-тегина...
Что ж... То, что не дозволено простому смертному, высокорожденным сходит с рук...
Подарки-то у него — вон какие!..
* * *
На третий день, чуть свет, согласно обычаю, невесту вручили жениху. Он тотчас объявил о своем отъезде. И отказался от почетных провожатых. Проверил запасную тетиву для своего дальнобойного лука, бережно обернул ее тряпочкой и спрятал за голенище правовог сапога.
За все дни свадьбы Дугдгонча не произнесла ни слова. И лицо ее, спрятанное под покрывалом, тоже ничего не говорило. А когда убрали покрывало перед женихом, всем почудилось: они видят не живую девушку, а ее окаменевший портрет, изваянный неким божественным мастером.
Глянув на дочку, заплакала мать. Ее быстро увели. Сестры проливали ритуальные слезы и ласково звали:
— Мушкиназ! Мушкиназ!
Никому она не ответила. Братьям — тоже. Когда же Байташ хотел посадить ее на своего золотистого коня, она решительно воспротивилась. Тогда привели маленькую смирную кобылку — подарок от сельчан.
Так она и уехала, никому не сказав прощального слова...
* * *
Десятка Хакима-сарханга выехала в дальнюю разведку поздно вечером. Ехали по ночной степи в полном молчании. Слышались только удары копыт да неумолчно пели сверчки в пожухлой траве.
Из-за гор взошла луна, озарила степную дорогу и дальние предгорья, чуть видневшиеся в лунной дымке.
Впереди взлетела какая-то птица и, мягко взмахивая крыльями, унеслась прочь со зловещим криком: «Иску-ни! Искуни-и!».
Вся десятка невольно остановилась, прислушиваясь, пока эти крики не затихли вдали.
— Сова! — сказал Лакам. — Дурная примета...
Сарханг Хаким проехал несколько шагов, поднял концом копья что-то с земли... Это «что-то» оказалось челочеческим черепом.
Все сгрудились вокруг.
— Так вот почему она кричала «Искуни!» («Напоите меня!»). Разве вы не знаете древнее поверье? Нечистая птица поселяется в черепе убитого и взывает к путникам до тех пор, пока убитый не будет отомщен и душа не напьется крови убийцы.
— Но мы не знаем ни самого убитого, ни виновника его смерти.
— Помните, два года назад бесследно пропал Омар ибн Сахль?... И как раз в этих краях.
— У Омара ибн Сахля была пробита голова слева к затылку. Потом рана затянулась, но он часто жаловался на головную боль...
— Тут есть на черепе вмятина и как раз слева к затылку,— сказал Сарханг.
Все тотчас заключили, что череп принадлежал ибн Сахлю, хотя в тот бурный век мало ли черепов валялось в степи со всевозможными вмятинами!
— Значит, его убили тюрки, больше некому...
— Давайте убьем первого встречного тюрка и душа ибн Сахля успокоится...
Все так и порешили. Отряд двинулся дальше.
Проехав еще полфарсахга, сделали привал. Рассветало. Скоро запели птицы, нежные лучи брызнули над миром. Испарилась ночная роса с придорожных камней, однако воздух еще был упоителен своей утренней свежестью.
Тут разведчики заметили двух всадников, проезжавших поодаль.
— Смотри-ка! Один из них — тюрк.
— А второй — женщина в согдийской одежде...
— Аллах посылает нам этого тюрка во исполнение нашего решения, а женщину — в награду за верность клятве.
— Аллах Акбар! Вперед! — скомандовал сарханг.
Всадники вырвались из ложбинки и бросились к путникам.
Тюрк, увидев нападавших, что-то сказал женщине, вытянул плетью ее кобылу, а сам стал как вкопанный, видно, как он натягивает тетиву на свой дальнобойный лук.
«Вжик!» — просвистела парная стрела — сарханг едва увернулся.
«Вжик!» — просвистела вторая и ударила в Лаккама.
— Я ранен! — закричал Лакам, хватаясь за грудь
«Вжик!» — просвистела третья и Латта с глухим стоном пополз с седла; его верный конь сразу остановился.
Но четвертая стрела не просвистела. Арабы видели, как тюрк снова натянул лук и... что-то с ним сделалось. Он опустил свое смертоносное оружие и бросился наутек вслед за женщиной.
— У него лопнула тетива! — догадался сарханг. Это сразу воодушевило атакующих.
— Стой, бездельник!
— Не уйдешь, сын греха!
Тюрк улепетывал во все лопатки. Конь под ним — огненная молния, даже знаменитым аравийским скакунам не догнать такого. А вот под женщиной — типичный согдийский конек, хоть и хорош с виду, но годный только в хозяйстве. Женщина стала отставать.
Тюрк крутился около нее, словно хинн, хватался за уздцы. Даже пытался на ходу пересадить ее к себе в седло. Там у них происходило что-то непонятное — женщина, видно, из страха как будто сопротивлялась.
Между тем, арабы уже были совсем близко. Они яростно скалились и размахивали клинками. Их было семь против одного (Латто и Лакам отстали, юный Хашим остался с ними).
Тогда тюрк, отчаявшись, бросил упрямую женщину и поскакал вперед во всю прыть.
Арабы окружили нежданную добычу. Мухалким, как самый нахальный, протянул руку, сорвал покрывало с женщины... и плотоядно зачмокал губами...
Остальные невольно издали восторженные восклицания.
Девушка (совсем юная) была необыкновенно хороша. Отпетым воякам давно не приходилось видеть такой красоты. Они молча глазели, сдерживали коней.
Наконец, аль-Бакка пробормотал:
— А ведь она в наряде невесты...
— Она стоит целого каравана, — сказал Массас.
— А тюрк-то, тюрк, посмотрите...
Тюрк, отъехавший на безопасное расстояние, крутился на своем золотистом жеребце. Даже отсюда было видно, как он исходил бессильной злобой.
— Кто ты, о женщина? — спросил сарханг.
Девушка отвечала по-согдийски. Все отлично поняли ее — за годы службы в Мавераннахре «десятка» основательно изучила этот язык.
— О воины,— сказала красавица. — Взываю к вашей совести: Ведь вы мне — отцы и братья. Пощадите мою честь... У вас тоже есть дочери и сестры. Что вам во мне? А вот у того тюрка за голенищем правого сапога спрятан бадахшанский рубин необыкновенной величины. Потребуйте с него выкуп за меня, и он с радостью согласится. Тогда вы купите целых два каравана...
Воины сразу поверили.
— Эй, Массак, — скомандовал сарханг. — Оставайся с этой райской гурией. И смотри у меня! Остальные – во славу Аллаха! — за мной.
Массак поглядел им вслед, повернулся к девушке:
— Ты лучше-ка спешься, красавица... А кобылку твою я спутаю, чтобы далеко не убежала...
— Они догонят тюрка, убьют его, заберут рубин, а тебе скажут, что ничего не нашли, — сказала красавица.
Массас нахмурил брови. Быстро связал передние ноги лошадке хитроумным узлом.
— Надо бы и тебя связать, красавица... Да ладно... Далеко не убежишь. Посиди-ка на камушке, а я помогу своим единоверцам.
И Массас, гикнув, поскакал вслед за остальными... Тюрк, увидев приближающихся врагов, снова пустился наутек. Напрасно арабы кричали ему и делали отчаянные жесты — тюрк не понимал.
— Стойте! — сказал сарханг.
Остановились. Тюрк — тоже. Все стали наперебой делать ему знаки, показывая на правое голенище.
— Отдай рубин! — кричали, надрываясь, арабы.
— Мы вернем девушку!
— Ууу! Бестолковый!
Наконец, тюрк понял. Даже отсюда было видно, как он радостно осклабился, полез за голенище и вынул серую тряпицу.
— Сейчас увидим рубин...
— Вот и пришло к нам богатство... Тюрк развернул тряпицу...
— Смотрите! — закричал Мухалким.
— Чего смотреть! — сказал сарханг. — Сейчас он этот рубин натянет на лук и нам несдобровать. Назад! Назад, говорю!
Теперь уж все увидели: тюрк вынул из тряпки тетиву и стал лихорадочно натягивать на лук.
Воины поворотили коней и пустились по той же дороге — только теперь вспять — со всей прытью, на которую были способны их скакуны.
«Вжик! Вжик!» — то и дело свистели стрелы.
«Спаси Аллах и помилуй!» — каждый ощущал беззащитными лопатками приближающуюся смерть.
Они промчались мимо ничего не понимающего Массаса, мимо спутанной лошадки, мельком отметили, что девушки не видно. Некогда! Тюрк настигал!
Массас, крича и оглядываясь, мчался за ними следом.
Они проскакали полфарсанга и остановились только у того места, где бродили три знакомые лошади, и виднелась фигура юного Хашима...
Тюрк, наконец, отстал.
* * *
Грустно закончилось это утро, начавшееся так хорошо. Раненный Лакам кряхтел и посапывал, держась за перевязанную грудь.
А Латта... Юный Хашим вытирал слезы:
— Ему уже нельзя было помочь...
Друзья похоронили Латту. Молча и скорбно постояли у могилы. Ближайший его друг Латам произнес надгробное слово:
— Теперь ты будешь питаться в райских кущах. А то, что у нас имеется из еды, для тебя уже бесполезно. Покойся с миром.
После этого отправились восвояси. Маленький холмик в степи — вот все, что осталось от завоевателя Латы — человека, который всегда хотел есть...
Когда страж ускакал вслед за остальными, Дугдонча бросилась в неглубокий овраг и по его руслу побежала — сама не зная куда, лишь бы подальше от странных людей в полосатых платках и белых бурнусах. Она боялась их еще больше, чем своего жениха.
Долго бежала девушка по руслу высохшего ручья, следуя его поворотам, и с размаху попала в руки притаившихся людей. На них были странного покроя одежды, такое же странное, непривычное вооружение и шлемы в виде маленьких буддийских пагод...
И Дугдонча мгновенно вспомнила: так выглядели табгаки — солдаты Поднебесной империи. Один раз они проходили через их селение. Ну и пограбили, конечно.
Несчастья, свалившиеся на девушку за последние три дня, доконали ее. Она закричала, забилась в руках радостно ухмылявшихся врагов, и мрак покрыл ее сознание...
...Чжан Лао, возглавлявший гвардейский дозор, отдал приказ возвращаться. Они увидели все, что было нужно. К тому же такая редкостная добыча требовала немедленной заботы и ухода. Как бы не померла!
Девушку положили на импровизированные носилки и скрытно, высохшим руслом двинулись назад. Чжан Лао шел рядом, с жалостью глядя на прекрасное бледное лицо незнакомки. Своей беспомощностью, красотой и юностью она напоминала ему незабвенный Лепесток Сливы.
НАПАДЕНИЕ
За арабскими и китайскими войсками, действовавшими в Средней Азии, тащилось множество бродяг, людей без роду-племени. Они собирались в шайки, грабили по дорогам, убивали отставших. Нападали даже на обозы.
Несмотря на то, что бродяг-мародеров беспощадно уничтожали как арабы, так и китайцы, их не становилось меньше. Но не только безродные бродяги занимались разбоем. Некоторые тюркские «алпы», лихие сорвиголовы, на собственный страх и риск искали славу и добычу.
Случалось, они угоняли целые косяки воинских лошадей. Они словно дразнили судьбу, играя со смертью. И часто находили смерть там, где надеялись обогатиться.
* * *
Сегодня у «десятки» опять хороший вечер. Эти пройдохи названные братья Дахкак и аль-Бакка снова раздобыли где-то бурдючок со сладким бухарским вином: «Надо же помянуть усопшего Латту!».
Подвыпивший аль-Бакка до того расхвастался своими воинскими подвигами, что друзья не выдержали и подняли его на смех.
Тогда «плакальщик» обозвал всех глупцами и отправился спать, предварительно привязав своего Талька отдельно:
— Не хочу, чтобы мой чистокровный скакун стоял рядом с вашими клячами!...
... Глухая безлунная ночь. Трепещут звезды в необъятной бархатной глубине. Спит арабский лагерь. Даже всегда бдительные часовые от усталости потеряли бдительность: одни дремлют, опершись на копье, другие вышагивают, спотыкаясь...
...Несколько теней выскользнули из оврага и неслышно, по-змеиному, подползли вплотную к лагерной черте.
Слышен шепот:
— Элетмиш пойдет в ту сторону, я со своими — в эту... Часового возьму на себя.
На фоне звездного неба показался темный силуэт часового. Он брел неверными шагами — видно, совсем сморил сон...
Глухой удар от метко брошенного ножа. Часовой даже не вскрикнул, повалился на землю.
Тотчас над ним возникла фигура, склонилась: убийца осматривал убитого...
— Слышите, вон в той стороне фыркают кони... Значит — туда...
Темные фигуры засновали между белеющими палатками...
Спустя некоторое время возник шум, где-то раздался пронзительный крик, лязг оружия. Заржали кони, там и сям вспыхнули факелы. Какие-то всадники скакали между палатками, размахивали мечами.
Наконец, раздался звук трубы: «Тревога!»
Проснулся весь арабский лагерь. Замелькали всюду огни. Шум поднялся такой, словно джины собрались на ночной базар. Сам полководец Зияд ибн Салих, выскочив из шатра, натягивая доспехи: слуги торопливо помогали ему. Загремели крики команд. Воины быстро собирались в отряды, чтобы дать отпор врагу.
...Шум еле разбудил «десятку» сарханга Хакима. После попойки воины никак не могли прийти в себя.
...Муссавиг бросился взнуздывать своего коня, но со сна и от страха никак не мог разобрать, где у коня морда, а где круп, и все напяливал узду на круп, заправлял ее под хвост и бормотал:
— Голова у тебя всегда большая и лоб широкий, но как могло у тебя на лбу за одну ночь столько волос вырасти, да еще таких длинных, ума не приложу...
Пробегавший мимо Даххак остановился в недоумении:
— Что ты делаешь, несчастный?
— Не видишь, что ли? — буркнул Муссавиг. — Взнуздываю.
— Первый раз вижу, чтобы взнуздывали задницу. А под морду ты что же, шлею пропустишь?
Муссавиг, наконец, сообразил, что к чему.
— Э!... Не иначе как иблис (дьявол) вмешался...
... Наконец, когда войско было готово к битве, выяснилось, что сражаться не с кем. Нашли только двух-трех убитых часовых. Пропало полсотни коней, в том числе и любимый конь главнокомандующего. И — никаких врагов.
Зияд ибн Салих произвел строгое дознание и велел дать каждому оставшемуся в живых часовому по двадцать пять плетей. А начальник ночного караула получил вдвое больше — соответственно своему рангу...
... Когда ложная тревога кончилась, Муссавиг подошел к Даххаку и заискивающе сказал:
— О, брат мой! Ты уж никому не рассказывай...
— Двадцать дирхемов, — перебил Даххак.
— Побойся Аллаха!
— А теперь двадцать пять дирхемов.
Муссавиг плюнул и полез в пояс, заменявший воинам кошелек...
В эту ночь украли коня и у аль-Бакка.
— Ну, не говорил ли я, что мир — это гнусное вместилище воров и прелюбодеев! — горестно восклицал он. — Мой Тальк — не простой конь. Он вынослив, как верблюд. Однажды, когда мы сражались против черных тюргешей дбу Музахима, я получил три раны, но держался до конца в строю. Кровь текла у меня из ран и капала на шерсть коня. Когда бой кончился, и мы вернулись в лагерь, только тогда я обнаружил в груди моего Талька две тюркские оперенные стрелы: они вошли глубоко, на полпальца. Рядом с ними зияла широкая колотая рана от удара копья; на боку — длинная глубокая борозда от удара меча какого-то пехотинца. Изо всех этих ран текла кровь, а Тальк даже виду не подал! Он нес меня легко и свободно, будто ничего не произошло! Кровь наша смешалась...
А теперь бессовестный вор украл его, моего верного товарища!
Члены «десятки» принялись корить его:
— Ты сам виноват, надо было поставить коня вместе с нашими.
— И не напиваться, как житель оазиса.
— Мог бы два-три раза встать ночью и проверить...
— Да и конь твой виноват — глуп, как его хозяин... Мой никогда в чужие руки не дается...
— Помилуйте! — восклицал аль-Бакка. — Пусть я не досмотрел, а с коня какой спрос... Но неужто вор ни в чем не виноват?...
* * *
Через несколько дней в ставке джабгу карлуков опять появился Байташ-тегин.
Добившись приема, он сказал правителю:
— Славный Эльтебер! Я не забыл об имуществе, которым ты одарил меня: о хромой кобыле и двух торб с просом. Взамен я привез подарок: он ждет тебя у твоего царственного шатра.
Джабгу на этот раз не рассердился. Но лицо его приняло напряженное выражение. Он размышлял: «Пойти взглянуть? А вдруг «черный» тюргеш вздумал посмеяться надо мной? Пригнал какого-нибудь старого вонючего козла с двумя запаршивевшими овцами? Дорого же обойдется ему этот смех!».
Но когда джабгу вышел наружу, совсем другое выражение появилось на его круглой физиономии: радостно-удивленное.
Двенадцать чистокровных арабских коней нетерпеливо били копытами у коновязей. Особенно хорош был один жеребец — светлой масти, в яблоках.
Вокруг них уже суетились рабы-конюхи.
— Принимаю! — воскликнул джабгу. — Теперь я твой должник!
— Пустяки! — возразил «черный» тюргеш. — Я же знаю, ты всегда мечтал о таких скакунах... Вот я и купил их по сходной цене...
— Я уплачу тебе большие деньги!
— Э! Какие могут быть счеты между родственниками...
Младший брат правителя, знаменитый воин Утембек, увидев светлого жеребца, потерял голову:
— Царственный брат мой! Отдай мне этого коня! Бери взамен что хочешь!
Джабгу великодушно подарил ему жеребца. А Бай-таш-тегина пригласил на пир в его честь. Коварный тюргеш думал про себя: «Радуйтесь, глупцы. Этим подарком я вбил клин между вами и проклятыми арабами, отнявшими у меня невесту... Скоро вы запоете совсем по-другому...»
ВОЗВРАЩЕНИЕ КУПЦОВ
Однажды в полдень селение Рамуш огласилось радостными криками.
Наконец-то вернулись долгожданные купцы-земляки с караваном.
Однако вскоре радостные крики перешли в горестные возгласы и женский плач. Троих из купцов, в том числе музыканта Барбада привезли ранеными. Пропала также треть верблюдов с товарами. Несчастье! Большие убытки!
Мастер Пастун горевал меньше всех. Он тоже потерял кое-что из прибыли. Однако подарки «черного» тюргеша с лихвой покрывали все убытки.
Старый согдиец пребывал в благодушии до тех пор, пока купцы не увидели его верблюдов.
Что тут поднялось!
— Это наши верблюды! — кричали купцы. — Откуда ты их взял?
А когда узнали о свадьбе и выкупе, все сразу разъяснилось.
— Твой зять — разбойник и грабитель! — кричали пострадавшие. — Наша беда — его рук дело! А ты – укрыватель награбленного!
Расстроенный мастер выволок недавно полученные тюки во двор и начал трясущимися руками срывать матерчатую упаковку.
— За что вы ругаете меня, люди? В чем моя вина? Берите верблюдов, товары ... Покрывайте свои убытки... Разве вас, а не меня ограбил этот разбойник — тегин? Он увез мою дочь, радость моих старых глаз... О, горе! О несчастье!... Где теперь искать ее, мою голубку, попавшую в руки степного волка?...
На радостях купцы рассказали все, как было, ничего не скрывая.
Вот их рассказ...
На ночь остановились на самом пороге песков Моюн-Кум среди невысоких холмов. В небольшое полувысохшее озерцо впадал жалкий ручеек. Зато рыбы там было! В камышах слуги зарубили двух громадных сазанов. Можно было и много больше. Да куда их? Протухнет, не дождавшись утра. Рыбу, завернув в листьях лопухов, испекли на угольях жаркого саксаула и начали трапезу. Тут из-за бугра появился какой-то всадник на мохнатой лошаденке, замер от неожиданности, затем гикнул, развернул лошаденку и исчез.
— Плохо дело,— сказал караван-баши. — Придется сторожить всю ночь. Видно, где-то поблизости аил кочевников.
Люди осмотрели оружие и улеглись не раздеваясь. Издалека еле доносился тревожный лай аильных собак...
— Плохо дело, — повторил караван-баши, — надо их по пугать. Он медленно поднялся на холм, осмотрелся и, приставив пиалу к щеке, пронзительно заорал во все горло: «Я, кровожадный отуз-оглан из тюргешей! Окружные люди, не подходите близко. Убью-у-у! Если украдете верблюда или что-нибудь другое, берегитесь: я отыщу вас и расправлюсь, куда бы вы не спрятались!». (Следовало перечисление всех близлежащих и дальних пустынь и гор). «Я не табгач, не Кашгари, не сугди, не фаргани, не бухори, не тохаристани!». (Каждое из названий народа сопровождалось особо нелестным эпитетом). «Я, кровожадный отуз-оглан из тюргешей! Берегитесь: я слышу лучше, чем лисица, а ночью вижу лучше, чем тигр! Берегитесь и не мешайте мне спать, такие-сякие!». (Дальше следовали отборные, необыкновенно длинные, забористые и замысловатые ругательства). Так он орал до зари... Молодым согдийцам обидно было, что старик-согдиец так ругал собственный народ, но что поделаешь? Вокруг пустыня — где тюрки, как рыба в воде.
Ночь ушла, и забрезжил рассвет. Мало кому удалось вздремнуть, но все сразу без проволочки поднялись и собрались в путь.
Солнце только взошло, и сразу началась жара. Маленький караван из двенадцати верблюдов, четырех всадников и четырех слуг на осликах продвигался по пустынной местности, заросшей корявым саксаулом. Только опытный и бывалый не потеряется в этом лесу пустыни.
Караванщики торопились. Скоро жара станет нестерпимой, а до ближайшего колодца еще добрых два фарсаха пути. Внезапно слуга, ехавший впереди, издал тревожный возглас. Все повернули головы и увидели всадника на золотистом жеребце, поднимавшегося на ближайший холм.
Караван остановился. Люди приготовили оружие. Встреча в пустыне чревата опасностью, ибо грабителями полны дороги. Сейчас за этим всадником появится другой, третий, десятый...
Но всадник оказался один. Он спустился с холма и направился прямо к путникам.
Старый караван-баши, хорошенько разглядев пришельца, уверенно определил:
— Тюрк... И не та вонючка, что помешала нам спать. Это — волк.
Всадник привстал на стременах и громко спросил:
— Кто хвалился, что он отуз-оглан? Выйди вперед!
— Среди нас нет таких.
— Я вижу, что нет. Вы все таты. Отуз-оглан я.
— Отойдите от верблюдов!
Такая неслыханная дерзость, исходившая от одного-единственного воина, возмутила караванщиков: они принялись ругать его последними словами.
Тюрк пустил свою лошадь вперед; люди не успели опомниться, как он уж был среди них, ударил ближайшего копьем и сбросил с коня. Все накинулись на грабителя, но он умчался как ветер.
Слуги подняли раненого. Пока перевязывали его рану и ругали незнакомца, тот опять появился совсем рядом и снова закричал:
— Отойдите от верблюдов!
Разъяренные караванщики бросились на него. Всадники растянулись цепочкой, соответственно резвости своих коней, слуги и вовсе отстали. Тюрк словно злой дух вертелся на своем коне, ударил еще одного всадника злополучным копьем и снова умчался.
Беда, нежданно-негаданно свалившаяся на караванщиков, повергла их в уныние. С проклятиями и причитаниями, призывая светлого Ахура Мазду в помощь, они стали перевязывать рану второму своему товарищу.
И снова услышали грозный окрик:
— Отойдите от верблюдов!
Тюрк опять был здесь.
— Эх, не говорил ли я вам: надо всегда иметь при себе лук и стрелы,— сказал старый караван-баши. — Мы бы пострелили его как перепелку.
— Мы же не лучники,— уныло сказал один из слуг.
Решили не преследовать больше тюрка и продолжать путь. А тот вертелся рядом и покрикивал время от времени:
— Эй! Отойдите от верблюдов!
На его окрики не обращали внимания, но следили за ним зорко.
И все же тюрк нашел момент, подскакал вплотную к голове каравана.
Один из всадников (это был Барбад) ударил его копьем, но попал в высокую кованую луку седла и копье сломалось.
Тюрк же бросил противника с коня, угодив копьем прямо в грудь.
Да, мастерски владел копьем этот грабитель, и лошадь у него была дьявольской породы. Пока остальные подбежали, он снова ускакал, остановился на вершине холма и крикнул оттуда:
— Отойдите от верблюдов! Не то я уничтожу вас всех! Страх обуял несчастных путешественников.
— Это злой дух пустыни! — говорил один.
— Надо предложить ему половину,— сказал старый караван-баши. — Иначе он действительно убьет всех нас.
— Эй,— закричали караванщики. — Подъезжай и возьми половину!
Тюрк выслушал и приказал:
— Это много. Отделите четырех верблюдов и оставьте здесь. С остальными можете продолжать путь.
Бедные караванщики так и сделали. Восемь верблюдов, трое стонущих от ран мужчин, привязанных к седлам — чтобы не упали, старый караван-баши и четверо слуг тронулись в путь.
Они видели, как проклятый тюрк погнал оставшихся верблюдов в пустыню и вскоре скрылся за ближайшим холмом...
Далеко за пределами своих кочевий были известны имена тюркских батыров, лихих удальцов... Таких, как Утембек, Тутук, Элетмиш, Алп-Арслан, Байташ-тегин... Да мало ли!..
А мирным людям от них приходила одна только беда...
НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ
Танская армия все также медленно двигалась к городу Таразу.
Главнокомандующий Гао Сяньчжи по-прежнему отчаянно скучал. Еще больше душила тоска по ночам. Было очень жарко и «куньлуньский» раб (т.е. чернокожий) равномерно обмахивал своего господина, держась за эбеновую ручку, драгоценным опахалом из хвостовых перьев королевского фазана.
Рядом с ложем — яшмовый столик. Хотанская яшма, по выражению поэтов,— это ставший кристаллами лунный свет...
На столике, распространяя восхитительный аромат, горит свеча с делениями: по этим делениям определялось время.
Гао Сяньчжи принял из рук слуги нефритовую чашу с самаркандским вином и весь отдался привычным видениям... Вспоминалась двухмиллионная столица империи Чаньань, императорские пиры, помпезные празднества, иллюминации и фейерверки... А то сгущались и таяли перед взором берега озера Тайи с плакучими ивами; изукрашенные лодки, полные придворных красавиц... Виделся дворец пышности и чистоты, ажурные беседки, затем¬ненные вьющимися цветами...
Снились песни и танцы музыкантш из «Грушевого сада»... (школа искусств при императорском дворе). Ах, как они исполняли знаменитую «Из радуги сотканный шелк, из сверкающих перьев убор!». А изумительный балет «трели весенней иволги», написанный музыкантом Бо Мин-да из Кучи! Он смотрел его в присутствии императора, рядом с которым сидела Лепесток Сливы... Его тайная и единственная любовь... «Веер, выброшенный осенью»*. (*Поэтический образ покинутой женщины)
Вернуться! Вернуться бы в тот благословенный край!
Но нет! Нет дороги назад!... Первый министр Ли Линь-фу передает новые и новые повеления императора. Все они сводятся к одному: захватить и удержать страну Давань и близлежащие земли. Этого требуют интересы Поднебесной!..
...Чжан Лао, зная о тоске начальника, решил преподнести ему сюрприз — пленную красавицу.
Но с начала этот добрый малый переговорил с ней. Умея изъясняться на местных диалектах, он объяснил пленнице, что у нее есть выбор: если она поет, танцует или играет на цитре, то может занять соответствующую должность при шатре господина. Если же ничего этого не может, то и тогда у нее остается выбор: или стать почетной наложницей самого господина, или же пойти к кому-нибудь из военачальников. Большой господин очень добр и не навязывает девушкам свою волю...
— Я умею танцевать! — закричала Дугдгонча.
— Это надо проверить, — сказал Чжан Лао. Словно императорский чиновник в школе танцев Цзяотан, принимал гвардейский сотник экзамен у пленницы. Мушкиназ — «Нежная как мускус», увидев проблеск опасенья от бесчестия, старалась как никогда. И хотя не все у нее получалось так, как могло быть, очарованный Чжан Лао забыл на какой-то срок даже свою вечную любовь — Лепесток Сливы...
Эти экзамены продолжались и день, и два, и три, пока евнух Ван Чэнь не донес господину: «Сотник Чжан Лао наслаждается один небесными танцами...»
Гао Сяньчжи потребовал показать ему искусотво новой танцовщицы. Она должна была с группой других согдийских девушек исполнить местные танцы на пиру у командующего.
...Оркестр из флейты, цитры и туркестанского барабана наигрывал «Танец Чача»... Перед оркестром — пять огромных искусственных лотосов.
Белые лепестки начали раскрываться... Из их сердцевины возникли юные согдиатки, прекраснее самих лотосов...
Оркестр убыстрял темп, музыка становилась нервной. Девушки в газовых вышитых халатах с серебряными поясами, в остроконечных шапочках с золотыми колокольчиками, в красных парчовых туфельках... Плавные движения их постепенно становились порывистыми, юные тела извивались с такой горячей страстью, что присуствовавшие военачальники почувствовали себя наполовину моложе... Вот полетели в сторону халатики. Теперь танцовщицы остались в одних полупрозрачных рубашках с узкими рукавами. Под конец девушки сделали глазки зрителям, приспустили с белых плеч рубашки и под исступленную музыку исчезли за пологом...
Военачальники шумно вздыхали. Они словно поднялись на гору Янтай — место любовных встреч по древней легенде...
...Несмотря на июльскую духоту ночи, Дугдгончу знобило. Евнух заботливо укрыл ее одеялом из гусиного пуха, под голову положил валик из фарфора, чтобы не испортить прическу...
До сих пор ей удавалось сохранить свою честь. Но что будет дальше?..
* * *
Во исполнение приказа джабгу карлуки приготовились к походу. Каждый воин прихватил с собой бурдюк из выдубленной сайгачьей кожи — для воды, лук с запасной тетивой и полный колчан стрел. В переметных сумках — сушеное мясо, катышки окаменевшего творога — курт и немного соли.
* * *
Арабы стремительно двигались к Таразу. Аль-Бекка вконец обнищал после потери коня: он даже не мог вносить свою долю в общий котел.
Тогда он решился на отчаянный поступок.
Однажды, когда сам Зияд ибн Салих проезжал мимо их палатки, он остановил его:
— Дозволь обратиться к тебе, о меч Ислама!
— Спрашивай! — Зияд придержал коня.
— Хочу обратиться к тебе не как простой воин к своему предводителю, а как человек к человеку.
— Спрашивай! — повторил Зияд, насторожившись.
— Твой отец — Адам. И мой отец — Адам. Твоя мать — Ева, и моя мать — Ева. Верно ли я говорю?
— Верно.
— Значит, мы с тобой — братья. Но у тебя столько добра, а у меня нет. Почему бы тебе не поделиться со мной по-братски?
— Только-то? С облегчением сказал главнокомандующий.
Он порылся в поясе и подал на раскрытой ладони мелкую монетку — один данг, шестую часть дирхема.
— Вот тебе деньги.
— И это называется справедливая дележка? — воскликнул Аль-Бакка.
Толпа, собравшаяся вокруг, молча глазела.
— Тесс! Не кричи так громко,— прошептал Зияд. — Видишь, сколько братьев стоит? Не дай бог услышат, так тебе и этого не достанется.
И Зияд ибн Салих тронул коня.
... Весь день после этого друзья-приятели потешались над неудачником-просителем.
Однако к вечеру главнокомандующий прислал своему воину трофейную лошадь.
БИТВА
Наконец-то!... Армии двух мировых империй встретились на берегах реки Талас. Их разделяла неширокая быстротекущая вода. Даже сейчас, в середине лета, она была ледяной, ибо питалась ледниками с вершин Небесных гор — Тянь-Шаня.
Зияд ибн Салих построил свою армию в традиционном порядке — в четыре боевые линии.
Первая линия символически называлась «Утро псового лая». Она состояла из рассыпного строя всадников — самых отпетых головорезов, которым и жизнь, и смерть — наплевать. Конечно же, десятка сарханга Хакима была тут (теперь их осталось девять человек; но мы для краткости будем называть их по-прежнему).
Кони нетерпеливо пританцовывали, грызли удила — они ведь тоже чувствуют и понимают: настал тот самый час.
И этот час объединил всю десятку: теперь не было Лакала, Массаса, Мухалкима и прочих обжор. Только воины. Вооруженные арбалетами, опытные, беспощадные, бестрепетные, с крепко сжатыми губами и прищуренным взглядом — сама решительность и бесповоротность.
Юный Хашим, вознося значок на копье, сдерживая приплясывавшего коня и сам весь рвался туда, за реку: там бесконечной ровной линией сверкали щиты и броня, солнечные зайчики отскакивали от шлемов.
— Скоро, отец?
Хаким-сарханг не ответил. Зато Даххак оскалил белые зубы:
— Нашему «Крошителю» не терпится сделать из танов тюрю...
Вторая линия войск называлась «День помощи». Тут стояли хорасанские полки, они должны были вступить в битву, если первая линия не добьется успеха.
Третью линию составляли бойцы из Мазандерана и конные полки бедуинов. Отборные войска. Их задача — остановить прорвавшегося врага и дать время обойти его с флангов последней, четвертой линии, для окончательного удара. Третья линия называлась «Вечер потрясения»; четвертую неофициально прозвали «Аллах поможет».
Это был последний резерв. Составляли его три конных полка ветеранов и верблюжий полк на одногорбых верблюдах из Южной Аравии, так называемых Махари. В скорости они не уступали лучшим скакунам.
Мы забыли упомянуть, что в первой линии стоял небольшой тюркский отряд. Это карлукский джабгу прислал арабам дружину алпов-богатырей во главе со своим братом — в помощь и для укрепления доверия.
«Десятка» оказалась неподалеку от них. Аль-Бакка только разок взглянул на коня одного тюрка и уже не смог глядеть ни на что другое. Глаза его загорелись красным пламенем, челюсть отвисла. Он глотнул слюну, дернул кадыком и громко позвал:
— Тальк! Тальк!
Конь под тюрком насторожил уши, повернул голову. Ноздри его затрепетали. И сам он весь затрепетал, стал нервно переступать копытами. Не понимая, в чем дело, тюрк ласково погладил коня по выгнутой шее, приговаривая:
— Хоп! Хоп!
— Тальк! Мой Тальк! — закричал Аль-Бакка. — Правоверные! Я нашел бессовестного вора! Ах ты, проклятый!
И Аль-Бакка, пылая справедливым гневом, стремительно продвинулся к тюрку и схватил Талька под уздцы; тот радостно заржал.
Тюрк, не долго думая, огрел араба плетью. Тогда весь десяток Хакима-сарханга кинулся на помощь. Тюрка пытались стащить с седла; он яростно отбивался и кричал своим:
— Кокуй! На помощь, степные барсы!
Началась свалка; мелькали плети, растопыренные пятерни и кулаки. В дальних рядах тюрок и арабов слышались тревожные возгласы:
— Что происходит?
— Или уже напали таны? Табгачи?
— Нет, это поймали шпионов...
И уже пронеслось зловещее слово «Измена!». Люди вытягивали шеи, приподнимались в седлах... На танский берег никто больше не смотрел.
Вполне возможно, начавшийся скандал закончился бы побоищем — на радость китайцам.
Но уже мчались к месту происшествия тюркский предводитель Утембек, а также арабские сотники, тысячники... И сам начальник линии «Утро псового лая» ибн Саб-бах спешил сюда-Скоро самых ярых драчунов разняли, роптавшую толпу разогнали по рядам, а зачинщиков потащили на дознание к самому главнокомандующему Зияду ибн Салику.
С ними поскакал и Утембек.
Арабы успокоились. Тюркская же дружина волновалась. Воинственные кочевники сжимали оружие, злобно поглядывали на соседей.
Но вот показался их предводитель. Тюрки вздохнули с облегчением: рядом с Утембеком скакал — правда, уже на другом коне, — их товарищ Туранташ, на которого столь беспричинно напал этот араб...
Все снова стали в строй. И вскоре по рядам пронеслась весть: конь-то под Туранташем был краденый! Это все бы ничего, но араб опознал свою собственность, а за ограбление арабов-союзников джабгу снимет головы с виновных.
Более того: скоро стало известно, что этого коня Туранташу проиграл в кости сам Утембек...
Утембек в это время говорил пострадавшему:
— Клянусь Вечным Небом, проклятый «черный» тюргеш ответит за это подлое дело! Он угнал коней у арабов и нарочно подарил моему царственному брату, чтобы по¬сеять между нами вражду! А меня — привести к позору и гибели!
— Да, такое не прощается... Он должен заплатить за бесчестье своей кровью...
На правом берегу Таласа выстроилась танская армия.
В центре стояли героические юноши из патриотически настроенных семейств в золотых доспехах и отборная пехота в доспехах из шкур диких буйволов, на которых нестерпимо блестели начищенные железные пластинки...
Слева и справа протянулись полки из горных и предгорных областей в чешуйчатых доспехах... Далее — полки из северных провинций в кольчугах, совсем недавно введенных в употребление... У пехотинцев были длинные все воины — в сапогах и штанах «варварского образца», т.е. перенятого у тюрок.
Пешие стрелки были вооружены длинными луками из тутового дерева; другие — маленькими арбалетами... Был отдельный полк маньчжурского племени шивэй, с изящными роговыми луками.
На флангах уступами расположилась конница. У всадников были огромные раскрашенные луки, усиленные накладками из рога и сухожилиями; их когда-то китайцы переняли у северных кочевников. Теперь же это дальнобойное оружие изготовлялось мастерами в хэбэе и Северном Шанси.
У каждого стрелка-пехотинца и конника висел колчан, сплетенный из белой лозы кудзу, покрытый черным или красным лаком.
В колчанах — полно длинных бамбуковых стрел. Бамбук для них доставлялся из чаш Цаянси и Хунани к югу от Длинной реки (Янцзы).
У арбалетчиков дротики были короткими и оперялись кожей.
Вся линия танских войск героически сверкала и сияла, и метала тысячи зайчиков под июльским солнцем, «так что озаряло небо и землю», как выразился китайский летописец.
В довершение этого великолепия над войсками колыхались пурпурные знамена-драконы...
* * *
Тем временем карлукский правитель стягивал дружины подвластных ему племен в глубоком тылу у китайцев.
Разведка, высланная по всем направлениям танским полководцем, ничего не доносила. На всякий случай предусмотрительный Гао Сяньчжи оставил для прикрытия тыла большой отряд пехоты и несколько кавалерийских частей. Вместе с лагерной охраной и обозными слугами это составляло значительные силы.
* * *
Весь день простояли арабы вдоль берега реки. Солнце жгло неимоверно. Даже этим детям южных пустынь становилось невмоготу. Пот стекал по смуглым лицам, зудились мокрые спины под нагревшимися доспехами.
В полдень, по призыву муедзинов войско сотворило намаз. Главный поставщик воды имам Йакуб аль-Хариси, обладавший трубным голосом напомнил воинам ислама о райском блаженстве, ожидавшим павших в предстоящем бою.
После полудня по рядам пронесли холодную воду. Изнемогавшие бойцы подкрепились. Но многие отдали свою порцию верному другу — коню.
Танским войскам было не легче, хотя солнце било им в спину, а не в лицо. Среди них находилось много северян, которым среднеазиатская июльская жара казалась просто невыносимой. Вид текущей холодной воды, которой нельзя освежиться, приводил их в неистовство.
В полдень было дано разрешение перекусить стоя. Солдаты заморили червячка тем, что нашлось в походных сумках.
Так простояли до вечера.
В сумерки оба полководца отвели свои армии на исходные рубежи, оставив усиленные боевые охранения.
Собственно, опасаться было нечего: ночной переход через реку и последующая атака практически невозможны. И ночные сражения таких масс войск невозможны тем более.
На второй день повторилось то же самое: войска простояли друг против друга, разделенные лентой реки.
Лишь ночь принесла кратковременный отдых.
На рассвете третьего дня войска опять заняли боевые позиции. Стояли до заката. И у той и у другой стороны возросла злоба на противника вместе с пренебрежением к нему...
К ночи чуть подул ветерок и воины впервые по-настоящему отдохнули.
* * *
Карлукские вожди закончили сбор дружин. Огромная масса конных войск, словно вода, сдерживаемая временной плотиной, скопилась в глубоком тылу танской армии, готовая обрушиться на врага неудержимой лавиной.
Четвертый день прошел по точно такому же распорядку — к нему уже начали привыкать.
На танской стороне произошел небольшой инцидент: прибыла дружина кочевых воинов-тюрков. Как союзники. Возглавлял их Байташ-тегин из «черных» тюргешей.
В тот же день джабгу карлуков отдал своим воинам приказ...
А разведка между тем ничего не доносила главнокомандующему Гао Сяньчжи...
БИТВА (продолжение)
Гао Сяньчжи сидел в своем шатре, играл в го с военачальником Ли Сяном. Пятый день «противостояния». Все шло, как он и предполагал: арабы не осмелятся напасть. Отряд танских войск, осаждавших в Таразе арабского полководца Сайда ибн Хумейда, скоро возьмет этот город — самый крайний на востоке опорный пункт пришельцев с Запада.
Поэтому Гао был так спокоен.
И тут ему доложили:
— Замечены крупные скопления жунов (тюрков) в 60 ли (20 км) к востоку.
Гао отдал соответствующий приказ тыловому заслону и продолжал играть. Пятый день шел, в общем-то, как и предполагалось...
Через два часа в шатер вошли начальники охраны Чжан Лао, начальник разведки и с ними — воин, забрызганный кровью.
— Жуны напали на войско Ли Сяна! Их больше, чем воды в Хуанхэ!
Игравший в го начальник Ли Сян вскочил как ужаленный.
Гао Сяньчжи отодвинул игральную доску и встал.
Корпус Ли Сяна был тем самым заслоном в тылу армии — на всякий случай...
Главнокомандующий подробно расспросил израненного разведчика: много ли жунов? Какие у них знамена?
Разведчик отвечал: много! И знамена — самые разные: с конскими хвостами, с волчьей головой.
— А не было ли у них красного полотнища?
— Было! — чуть слышно прошептал разведчик; он совсем ослабел от ран.
Гао сказал тогда:
— Значит, на нас идет сам правитель жунов. Готовьтесь. Это — уже серьезно.
Он велел подать себе доспехи, покрытые золотым лаком (подарок императора): это были те самые доспехи, которые много лет назад прислали императору Тайцзуну из корейского государства Пэкче.
Взял он и поданный слугою меч, который мог резать яшму: его выковали мастера из Кунъу, а кузнечные меха раздували девушка и девственный юноша — вследствие этого он считался неодолимым.
Эфес и ножны меча были сплошь усеяны драгоценными камнями, а рукоять покрывала акулья кожа.
Взял полководец также короткий нож; такое оружие изготовлялось для танского двора в Восточной Сычуани, близ горных ущелий...
Он сел на коня и в сопровождении свиты поднялся на возвышенное место.
Арабские войска стояли на том берегу в привычном спокойствии. В тылу пока еще ничего не было видно, однако Гао знал: в эту минуту его арьергард — заслон погибает под ударами тюркских стрел, копий и мечей.
И он решился на крайнее средство: отдал приказ снять часть войск с боевой линии и повернуть навстречу новому врагу.
Тяжелая латная конница с флангов двинулась в тыл.
Арабы как будто ничего не заметили, по-прежнему стояли неподвижно.
Гао Сяньчжи сам возглавил контрудар.
Армия кочевников шла всесокрушающей лавиной. Гао видел, как мгновенно были смяты передние ряды его войск, как побежали назад в панике пехотинцы из обоза... Страшные всадники догоняли их и поднимали на копья...
Он видел конские хвосты на поднятых древках. И оскаленные волчьи пасти. А в центре атакующего тюркского клина гордо реяло красное полотнище чигилей... Там — сам джабгу шел в атаку...
Страшную картину представляет собою атака конного войска!... Как будто исполинский беркут расправил два своих могучих крыла: он — правое и сол — левое.
И все-таки Гао Сяньчжи, предвидевший такой вариант, успел вовремя повернуть свои части навстречу степной силе. И случилось почти невозможное: эти части сумели остановить лавину. Бой шел жестокий, ужасный, но опытный глаз полководца видел!... Удар кочевников теряет силу инерции. Вот-вот — и они выдохнутся.
И тут с фронта ударили арабы.
... Зияд ибн Салих наблюдал с возвышения за переправой своих воинов. На его глазах многие падали в холодные воды Таласа, пронзенные стрелами. Кони с задранными копытами, спины, бурнусы, шлемы... Из-за них воды не было видно.
— Все они пойдут в рай, — вслух произнес Зияд ибн Салих, видимо, отвечая на собственные мысли.
* * *
Гао Сяньчжи, этот изнеженный аристократ, вечно пребывавший в ностальгии, сын корейского эмигранта, превратился в яростного воина. Когда ударили арабы, он собственноручно сразил начальника линии «Утро псового лая» ибн Саббаха, раскроив ему череп своим наговорным мечом. От его руки пал Туранташ, знаменитый степной богатырь, тот самый, в чьем коне аль-Бакка признал сво¬его Талька...
Он сражался так, как будто хотел во что бы то ни стало пасть в бою... Он уже был дважды ранен, когда конвой во главе с Чжаном Лао оттеснил врагов. Чжан кричал, задыхаясь:
— Господин! Вверх! Вверх по течению!
Но Гао видел: пробиться к своим погибающим войскам и сложить голову вместе с ними уже невозможно. Арабы плотной стеной перекрыли проход.
И в этот миг неожиданно пришла помощь.
Клин всадников в тюркском боевом наряде вырвался откуда-то сбоку и ударил в арабскую стену. Тяжелая латная кавалерия шла через полк бедуинов как нож. В первом всаднике — предводителе Гао Сяньчжи узнал того, кто привел ему отряд жунов не далее как вчера. У него странное для цивилизованного слуха имя: Бай-таш Те-гин... Но как он дерется! Вот повалился с коня всадник в белом бурнусе, вот второй... Удивительный воин!..
— Господин! Господин! Нужно торопиться! – кричал Чжан Лао.
... Они соединились с войсками. Тысячи солдат Поднебесной, загнанные в теснину, устремились вверх по течению реки.
Страшная давка стала причиной гибели многих. Люди с побелевшими вытаращенными глазами лезли друг на друга и давили, давили, давили — своих...
Личная охрана полководца в шлемах, похожих на крошечные одноэтажные пагоды, в куртках с нашитыми металлическими пластинками, вклинились в это обезумевшее скопище...
Засверкали широкие мечи: пришлось прорубать коридор среди живых людей... И конвой во главе с Чжаном Лао делал это с мрачными лицами. Пронзительные вопли, стоны разрывали душу. Сыпались страшные проклятья. Но конвой с бородами пота и слез на запыленных лицах продолжал кровавую жатву: гвардейцы работали как дровосеки. Только вместо деревьев валились свои, единокровные, умоляющие, плачущие...
А внутри этого железного клина шел, весь израненный Гао Сяньчжи с непокрытой головой — в бою он потерял шлем...
* * *
«Десятка» сарханга Хакима оказалась в самой гуще боя.
На этот раз удача сопутствовала им. Благополучно переправились через реку и, немного замешкавшись, вступили в сражение, когда таны уже дрогнули.
Они видели, как раззолоченный танский военачальник сразил их вождя ибн Саббаха... Потом таны побежали...
...Десятка ворвалась в лагерь врага. Сколько тут было покинутого имущества! Кругом носились воины: тюрки и правоверные — с разгоряченными лицами. У палаток и опрокинутых котлов стояли на коленях таны — слуги, безоружные, склонив в знак покорности головы... Тоже добыча...
У громадного шатра танского эмира завязалась жестокая сеча. Пыль, горячие испарения, собственный пот и азарт боя застлали сражающимся глаза. Но аль-Бакка заметил женщину, метавшуюся между опрокинутыми повозками. Потом она залезла между колес экипажа и затихла.
— Эй, Даххак, за мной!..
Они вытащили женщину... Шум битвы отодвинулся в сторону: остальные грабили роскошный шатер. Женщину всю трясло, как в лихорадке.
— Анахита! Анахита! — кричала она.
— Ты — Анахита, а я — аль-Бакка,— говорил аль-Бакка.
— О глупец! — сказал Даххак. — Это ведь не ее имя. Так призывают они свою ложную богиню в помощь. Что за народ! Даже не знают, что кроме Аллаха, нет бога, тем более богинь...
— Эй, посмотри! — сказал аль-Бакка. — Мы, кажется, наши то, что недавно потеряли.
— Клянусь Иремом, это она! Та, что это находка! Сам Аллах вторично посылает нам эту прекрасную розу!
— Анахита! — кричала девушка; изловчившись, она укусила Даххака за руку.
— А роза-то с шипами,— сказал Даххак. — Брат мой! Я думаю, не будем больше мешать славным воинам ислама побеждать. Возьмем-ка эту девицу и повернем коней к нашему котлу. Где теперь найдешь на этом базаре наших братьев и сарханга Хакима?
— Я тоже так думаю,— живо откликнулся аль-Бакка.
ПОСЛЕ БИТВЫ
Чжан Лао, легкораненый, попал в плен. Виновным оказался метко брошенный аркан. И вот гвардейца волокут, словно тушу убитого зверя по кочкам, по колючим зарослям степной травы. Ударившись головой о камень, он потерял сознание. Хутлуз, пленивший китайского командира, променял его, полуживого, на торбу овса и горшок пшеницы какому-то арабу. Так Чжан Лао попал в руки полководца Зияда ибн Салиха.
* * *
Полное и сокрушительное поражение танской армии стало фактом. Остатки ее отступали вверх по руслу Таласа, преследуемые врагами, пока ночь не скрыла беглецов.
Карлукские алпы грабили брошенный лагерь. С ними была и часть арабов. Другая же часть уже поздней ночью прекратила преследование.
Наутро у победителей состоялся день заслуженного отдыха. Все войско находилось в праздничном настроении.
Совершили утренний намаз. Главный мулла имам Йакуб аль-Хариси произнес торжественную проповедь.
Затем повсюду задымились костры, заблеяли бараны, предназначенные для котлов. Вкусно запахло мясной похлебкой и пшеничной кашей.
«Десятка» сарханга Хакима собралась у своего котла. (Теперь уже не десятка, а семерка — Маддад — «Текущий» и Мухалким-нанал погибли).
С ними была и пленница побратимов. Она сидела в сторонке, сжавшись под своим легким покрывалом в комочек.
Вершили суд над преступницей. Массас сказал:
— Знаешь ли ты, дочь обмана, из-за тебя погиб брат наш Латта и мы его, бедного, закопали в землю? А второй наш брат Лакам несколько дней не мог есть в полную силу из-за раны в груди?
Муссавиг добавил:
— Убить надо эту дочь Иблиса.
— Правильное решение, о судьи! — поддержал Лакам.
Вмешался Даххак:
— Так нельзя. Она — женщина. А кто убьет женщину, недостоин называться мужчиной.
Аль-Бакка поддержал побратима:
— И не забывайте: это — наше имущество. Мы ее взяли в бою.
— Она — не просто пленница, она — причина беды, — возразил сарханг.
— Я против ее смерти! — крикнул юный Хашим. — Я самый молодой из вас. Я всегда молчу. Дайте же теперь высказать то, что источает сердце.
— Говори! — разрешили все.
Юный Хаким начал очень взволнованно:
— Эта девушка боролась за свою судьбу всеми доступными ей средствами. Она спасала свою жизнь и свободу. Она достойна уважения. Разве любой из нас поступил бы иначе? А мы... Мы сами виноваты, ибо сказано: «Жадность — причина гибели многих». Мы поверили ей – от жадности. Погнались за рубином — от жадности. И встретили смерть — от жадности... А самая главная причина — то, что мы оказались беззащитными перед одним-единственным тюрком... Потому что по беспечности, хвастовству и опять-таки от жадности оставили свои луки в лагере, побившись об заклад с десяткой сарханга Яхья ибн Ахмеда... Разве вы забыли? На сто серебряных дирхемов и мешок пшеницы мы поспорили, сто сумеем обойтись без луков и стрел в дальней разведке... И сто дирхемов мы не выирали, и Латту потеряли... Если бы о таком деле узнал Зияд ибн Салих, он казнил бы нас всех и сейчас некому бы было судить эту девушку...
Все молчали. В словах Хашима была правда, а его последнее утверждение повергло «десятку» в уныние. Наконец, сарханг произнес:
— Не станем судить. Будем считать эту девушку простой пленницей.
— Нашей пленницей! — живо подхватили два побратима.
Девушка молча ждала своей участи: она не понимала по-арабски.
Как только спор разрешился, побратимы тотчас отвели ее в сторону и усадили под тутовым деревом.
— Я, пожалуй, женюсь на ней, — сказал Даххак.
— А моя доля? — воскликнул Аль-Бакка.
— Я дам тебе двадцать серебряных дирхемов...
Массас сказал:
— Она стоит целого каравана. А полкаравана ты за всю жизнь не соберешь...
— Не можем же мы жениться на ней оба! — закричал Даххак.
— Я жениться не собираюсь. Ибо женитьба — это колодец глубокий. Да оставит надежду на спасение всяк упавший в него.
— Неужто нельзя оттуда выбраться? — заинтересовался Даххак.
— Можно бы, если бы не заваливали колодец каменными глыбами...
— Что еще за глыбы?
— Дети. А, кроме того, вспомни, что сказал поэт: «Воистину жены — исчадия ада, Не надо нам ада, И жен нам не надо».
Дугдгонча, молча слушавшая спор, вдруг сказала по-согдийски:
— Я умею танцевать... Пожалейте мою юность...
— Э, девушка, ты опять лжешь...
Дугдгонча вскочила, выгнула стан, взметнула нежные руки, словно два крыла и пошла по кругу...
Ангелы, смотревшие с неба, наверное испытали дрожь в сердцах: это юное создание пыталось спастись от насилия таким наивным способом...
Побратимы залюбовались, захлопали в такт в ладоши:
— Верно сказала!
— Хорошо!
А девушка все танцевала и танцевала древние согдийские танцы... Лирический сменился весенним радостным, а тот — печальным «Танцем слез»...
Собралась целая толпа. Кто-то притащил свирель, бубен... Под музыку стало совсем хорошо!... Все вскрикивали поощрительно.
Даххак от чрезвычайного волнения разорвал на себе рубаху и крикнул побратиму:
— Рви же и ты свою!
— И не подумаю! — возразил Аль-Бакка. — Она у меня одна.
— Рви! Я завтра дам тебе другую.
— Тогда я завтра ее порву.
— Горе тебе, глупец! Какой же будет в этом смысл завтра?
— А какой будет смысл, если я разорву ее сегодня, а завтра ты свою рубашку отдать мне передумаешь?
Никто и не заметил, как сзади подошел имам Йакуб аль-Хариш, главный «наставник веры». Он стоял и смотрел до тех пор, пока Дугдгонча в изнеможении прислонилась к тутовнику.
Имам аль-Хариш вступил в круг и сказал:
— Пожалуй, я возьму эту девушку себе.
Аль-Бакка промолчал. Но Даххак живо ответил:
— Почтеннейший! Девушка принадлежит тому, кто добыл ее в сражении. А это сделали мы, свидетелей у нас множество.
— Не спорь! — строго ответствовал имам, — ты должен радоваться, о воин, что из всей добычи я выбрал то, что у вас в руках! Аллах прольет на вас неисчислимые милости!..
— Аллах уже пролил на нас свои милости, а ты эти милости хочешь отобрать...
Аль-Харши начал раздражаться.
— С кем споришь ты, неразумный? Разве не знаешь, кто я?
— Будь ты даже сам халиф, и тогда не уступлю того, что принадлежит мне по праву! — отвечал Даххак.
Вспыльчивый аль-Хариш не смог дольше стерпеть.
— Зиндик! (еретик), — пронзительно закричал он. — Деревенщина! Я — сейид! Потомок Мухаммеда! И мне по закону принадлежит десятая часть всей добычи!
— А петуха не хочешь? — злобно отвечал Даххак. Аль-Хариш поднял посох и ударил непокорного по хребту.
Даххак вцепился ему в бороду — холеную, пропитанную мускусом и розовой водой.
Они схватились не на шутку, награждая друг друга яростными тумаками.
— О Мухаммед! — причитал имам.
— О Адам! — вторил Даххак.
Драка была в самом разгаре, кода противники вдруг почувствовали, что их растаскивают в разные стороны.
Через мгновенье руки у них были загнуты за спины, а в уши ударил грозный голос главнокомандующего:
— О, нечестивцы! Как осмелились вы осквернить непристойною дракою великий День Победы?
Тут Зияд ибн Салих узнал имама, глаза его радостно заблистали, он воскликнул с притворным смущением:
— Что я вижу? Святой имам! Или мои глаза лгут?
Имам с достоинством стряхнул с себя руки стражников, хотел что-то сказать. Передумал. И молча пустился крупными шагами прочь.
— Из-за чего произошла драка! — обратился командующий к Даххаку.
Тот изложил причину, взывая к свидетельству присутствующих.
Зияд втайне был очень доволен, что имам так опозорился.
— А где девушка? — спросил он.
Из-за спины вытолкнули Дугдганчу. Зияд долго смотрел на ее прекрасное лицо, видимо, пораженный. Он сказал Даххаку:
— Чтобы не было больше спора, назови цену этой девушки, и я куплю ее.
— Мы с названным братом оцениваем ее в пятьсот полновесных золотых динаров, — отвечал Даххак.
Зияд пробежал глазами по толпе: аль-Бакка прятался за спиной.
— А где твой названный брат? А-а... Ну, выходи... Кому же из вас принадлежит решающее слово? Кто из вас старше?
Даххак поспешно ответил:
—Аль-Бакка пока что старше меня на год. Но через год мы с ним сравняемся, о меч Веры!
— Я вижу, вы оба — шутники...
Зияд хлопнул в ладоши. Тотчас личный казначей командующего вышел вперед и отсчитал в полу Даххака означенную сумму. Золотые динары тускло отсвечивали желтым, стоявшие рядом завистливо вздыхали.
Итак, инцидент был исчерпан — к полному удовольствию всех присутствующих, не считая аль-Хариси, который ушел, и Дунгдгончи, мнения которой никто не спрашивал. На прощание Зияд полюбопытствовал: — Скажи, воин, почему ты во время драки восклицал: «О, Адам!». Даххак объяснил: — Каждый из нас призывал в помощь своего предка. То, что его предок сам пророк, пусть этот чванливый имам еще докажет! А в том, что я происхожу от более древнего предка, не усомнится никто!
ПОСЛЕ БИТВЫ (продолжение)
На поле боя нашли и тело Байташ-тегина. Он лежал, окруженный поверженными трупами врагов.
Арабы собрали только своих убитых. На второй день, в сумерках, несколько воинов-тюрков подняли тело знаменитого степного рыцаря и увезли с собой. Опальный принц Алп-Арслан Байташ-тегин не сгнил под палящим солнцем как падаль, его труп не растащили дикие звери.
Он был торжественно, по древнему обычаю, похоронен и оплакан друзьями и родственниками.
Благо человеку, даже мертвому, у которого есть родственники и друзья...
Бывшая десятка, а теперь «Семерка» сарханга Хакима благодушествовала. Еще бы! Побратимы получили 500 динаров за пленницу: по сто динаров себе, остальные — братьям по котлу. Таков обычай.
Сарханг Хаким нежился у палатки, предвкушая ужин. Торопившийся мимо сарханг Яхъя ибн Ахмед — тот самый, у которого они не выиграли сто жалких дирхемов заклада, — остановился и сказал с ядовитым самодовольтвом:
— Что ты сидишь? Сейчас у палатки святого имама каждому слабоумному дают по десять дирхемов.
— А ты свои уже получил? — осведомился Хаким, не двигаясь. Он ощущал в поясе приятную тяжесть от шестидесяти полновесных золотых динаров, полученных от побратимов как свою долю за Дунгдгончу и поэтому говорил так смело.
* * *
Пленный Чжан Лао в роскошной (хотя изрядно помятой) амуниции гвардейца привлек, естественно, внимание арабов. Его привели к самому главнокомандующему.
После короткого допроса Зияд ибн Салих сказал:
— Из-за тебя мы потеряли возможность захватить эмира ваших войск. За это я приговариваю тебя к смерти.
Чжан Лао сказал:
— Мне хочется пить. Дайте сначала воды, а потом казните.
Переводчик бойко перевел.
— Дайте ему воды, — распорядился Зияд ибн Салих.
Принесли полную чашу. Чжан Лао взял ее дрожащей рукой, но пить не стал.
— Что же ты не пьешь? — нетерпеливо спросил Зияд.
— Я боюсь, что меня казнят раньше, чем я успею напиться. — Перевели.
Зияд снисходительно ответил:
— Клянусь Аллахом, тебя не казнят, пока ты не выпьешь эту воду.
В тот же миг Чжан Лао бросил чашу оземь.
— Казнить его! — крикнул Зияд.
— Ты обещал не делать этого,— кричал Чжан Лао. — Ты клялся своим богом!
— Пока не выпьешь воды! — отвечал Зияд.
— Но я не выпил ее!
— Да поразит тебя Аллах! — сказал Зияд ибн Салих. -Я помиловал тебя, сам того не ведая! Эй! Отведите его к остальным пленным.
На торжественный пир по случаю победы аль-Хаким вошел и сел рядом с Зиядом ибн Салихом. Тот недовольно покосился. Полководец и главный мулла недолюбливали друг друга.
Зияд был одет в шелковый трофейный халат; тюрбан на его голове венчало павлинье перо, закрепленное алмазной заколкой, тоже трофейной.
Халат же имама был ношеный — переношенный. От частой стирки черный цвет его стал каким-то серым.
Полководец обратился к гостю вежливо и почтительно:
— О, наставник веры! Разве мои воины не подарили тебе превосходную одежду, достойную твоего имени? Если нет, я сейчас же прикажу...
Имам насторожился. В словах Зияда он почувствовал подвох: оба они частенько вступали в ядовитую перепалку — под покровом вежливости.
— Подарили. Что из того?
— Почему же ты пришел на пир в этом одеянии? Имам насупился. Подумав, ответил:
— Я ношу такое одеяние, которое может служить мне верно, а не такое, которому я сам должен служить.
— Прекрасный ответ! — воскликнул Зияд. — Бережливость похвальна, а расточительство осуждено пророком, да благословит его Аллах и да приветствует! Но, говорят, эта чалма из тонкой и дорогой материи, которая украшает твою благородную голову, куплена тобою за большие деньги?
Чалма имама выглядела действительно великолепно.
— За пятьсот дирхемов, — подтвердил имам. — Ибо твои воины забыли подарить мне чалму.
— Пятьсот серебряных дирхемов, — притворно ахнул Зияд. — Не расточительство ли это? Тратить такие деньги на чалму?
Присутствовавшие военачальники тайно ухмылялись в бороды и усы: как-то вывернется теперь святой имам! Но святой имам не вчера родился.
— Ответь мне, о доблестный и победоносный предводитель войск, правда ли то, что я слышал?
— А что ты слышал?
— Будто бы ты купил красавицу-танцовщицу? Для своего гарема?
— Правда, — отвечал Зияд. — Она действительно прекрасна.
— И будто бы ты за нее отдал пятьсот полновесных золотых динаров?
— И это правда. Клянусь райскими садами, она достойна такой цены.
— Призываю всех в свидетели! Что же получается? Я купил потребное для головы — то есть благороднейшей части человеческого тела — и отдал пятьсот дирхемов. А ты, Зияд ибн Салих, заплатил за наложницу, то есть потребное для самого презренного из человеческих органов, в сорок раз больше! Кто же из нас расточитель?
Зияд заморгал глазами, налился кровью и не нашелся, что ответить. Военачальники молчали, опустив глаза. Чтобы как-то разрядить неловкость, обжора-толстяк Сайд ибн Хунейд примирительным тоном прочел начало стиха из Корана:
— «Блаженны подавляющие свой гнев...» А другой подхватил:
— «Господь наш, ниспошли...»
Тут Зияд несколько очнулся и, чтобы не оказаться вовсе смешным, докончил третьим стихом:
— «Ешьте и пейте: «Что с вами, что не едите вы?»
Имам опустил пальцы в горку риса и с таким достоинством набил себе рот, будто это он победил китайцев-танов...
В это время в шатер вполз евнух с видом побитой собаки. Сердце екнуло в груди полководца: случилось какая-то беда.
— Говори!
— Пусть господин прикажет отрубить своему рабу голову...
— Говори!
— Не углядел... Прекрасная пленница...
— Скажешь ты или нет? — вышел из себя Зияд и отпустил слуге затрещину.
— Она вылила на себя кипяток...
— И обварилась? — закричал Зияд.
— Все тело в волдырях... Я уже положил целебные мази...
Зияд несколько упокоился.
— А лицо?
— И лицо испортила... Брызги на щеки попали...
— Как же это? Споткнулась она, что ли?
— Нет, господин. Умышленно.
— Умышленно? — Зияд не поверил ушам. — Что ты такое говоришь? Кто же будет ошпаривать себя кипятком умышленно?
— Я сам видел, — бубнил слуга. — Взяла и опрокинула медный кумган с кипятком... И даже не закричала... Только слезы текли... От боли, наверное...
— Конечно, от боли, дурень ты этакий? — ругался Зияд. — Кто же довел ее до такого состояния! Ох, у кого-то подпрыгивает голова на плечах!
Евнух только шмыгал носом, глядел преданными собачьими глазами...
* * *
Полководец произвел дознание. И выяснил нечто такое, от чего упал в долгую задумчивость.
— Небывалая женщина... — бормотал он. Воистину я еще не встречал такой; обезобразить себя, чтобы не достаться нелюбимому!... Клянусь своим светлым клинком, тут уж ничего не поделаешь, с такой девицей не справится и все войско правоверных... Впрочем, Аллах знает лучше.
И Зияд отправился к другой наложнице.
ЭПИЛОГ
После столь великой победы Зияд ибн Салих погрузился в гражданские дела: надо было включить в общую жизнь халифата завоеванный край.
В первую очередь — установить и собрать налоги.
Установили. Собрали. В казну хлынули широким потоком натуральные продукты сельских жителей, ремесленные изделия горожан. И — деньги, деньги, деньги... Недаром среди арабов ходила поговорка: «Дирхем — это ось, вокруг которой вращается жернов мира».
...Депутация согдийских земледельцев — кедиверов настойчиво добивалась приема у самого главнокомандующего.
Старики-согдийцы в чисто выстиранных латанных халатах молча стояли у шатра в ожидании. В знак покорности на каждом был зуннар — особый унизительный пояс, который обязаны были носить все неверные, т.е. немусульмане.
Наконец, главнокомандующий вышел к ним.
— Ну, что там еще! — недовольно буркнул он в ответ на приветствие.
Вперед выступил мастер Пастун:
— О, эмир! В этом году у меня и моих односельчан уродилось зерна всего по десять харваров. А твои сборщики налогов хотят с каждого из нас взыскать как за сто харваров. Помоги!
— Послушай, глупый согдиец с бородой весом в десять манов, зачем говоришь пустое? Что же, мои сборщик десяти от ста отличит не могут?
— О, эмир! — воскликнул Пастун. — Борода моя весит один сир, а ты посчитал, что весу в ней десять манов. Если ты сам не можешь отличить одного си а от десяти манов, где уж твоим сборщикам отличить десять харваров от ста!
Зияд ибн Салих понимал и ценил юмор, но, подобно большинству людей, не любил сам попадать в смешное положение. Он расхохотался:
— О, мужественный длиннобородец! Снимаю с тебя и твоих сельчан за этот год все налоги!
Старики горячо поблагодарили щедрого эмира, начали степенно кланяться, прощаясь. Зияд остановил из:
— Погодите. Я хочу сделать вам еще один подарок. Есть у меня пленная согдийская девушка, я выкупил ее у моих воинов за пятьсот динаров. Но она стоит вдесятеро, в сто раз больше. И не только потому, что она прекрасна как луна в месяц Рамазана. Сердце ее — самое гордое сердце в мире. Самое надежное, самое чистое. Говорю вам, почтенные, она — бесценный алмаз. И я отдаю ее с единственным условием: чтобы вы разыскали ее родителей и вернули им дочь. Может быть, Аллах зачтет мне это, когда придет день Последнего Смотра. Эй, Баргус! Приведи сюда девушку.
Через несколько мгновений, расторопный евнух ввел девушку под покрывалом.
И хотя лицо ее было скрыто, сердце мастера Пастуна дрогнуло. Он издал глухой крик и задохнулся, хватаясь за грудь. Девушка с пронзительным воплем: «Отец!» — бросилась к нему...
* * *
Барбад и Дунгдгонча наконец-то соединились в счастливом браке. На этот раз мастер Пастун не сказал ни слова против.
Свадебное торжество получилось хоть и не такое обильное яствами как прежнее, зато радости и веселья было куда больше! Даже парни не хмурились: ведь они знали о давнишней взаимной любви брачующих. И от души поздравляли Барбада.
Как прекрасна была новобрачная! И даже небольшие шрамы от ожогов не портили ее в глазах односельчан и жениха. Ибо все помнили; шрамы эти — свидетельства величия духа. А что есть более ценное в человеке?..
Неизвестно, играл ли жених на собственной свадьбе, и танцевала ли Дунгдгонча, «Нежная, как мускус». Да это и не так уж важно. Впереди у них была вся жизнь с ее трудами и заботами. Но, несмотря на заботы, если двое живут в ладу, для песен и танцев всегда время найдется!..
* * *
Зияду ибн Салиху донесли:
— Слышал ли ты, о эмир, что сегодня имам аль-Хари-си обратил в мусульманство неверного? И повязал ему голову своей знаменитой чалмой?
— Того китайца? — спросил Зияд.
— Того...
— Просто эта чалма перебралась с головы одного неверного на голову другого. Вы думаете, этот тан душой и сердцем принял истинную веру?.. Но пусть — аль-Хари-си пребывает в надежде. Нам, нет необходимости разочаровывать его. Это сделает его подопечный. Когда-нибудь... В конце-концов...
Нет, не Чжан Лао приял новую веру — в мусульманство перешел совсем другой китаец.
Судьба гвардейского сотника сложилась не так уж и скверно.
Правда, ему пришлось испытать все бедствия, обычно выпадающие на долю пленных.
Как уже говорилось, их набралось почти 20 000. Тех, кто владел искусством выделки бумаги, оставили в Самарканде, а шелкоткачей отправили в Ирак.
Вот когда пригодилась гвардейцу его старая профессия!
Он трудился несколько лет в самаркандских бумажных мастерских. И так как обнаружил замечательное уменье и проявил трудолюбие, то сумел в 757 г. выкупиться на волю, еще через два года приобрел домик и женился.
В 762 г. все пленные мастера были отпущены на родину. С ними вместе, забрав семью, уехал и Чжан Лао.
Китай в то время пережил ужасную братоубийственную гражданскую войну. Два крупнейших военачальника — Ань Лушань и Ши Сы-Мин подняли восстание против императора Сюань-Цзуна. Войска желали обуздать засилье фаворитов. Сам император вынужден был отречься от престола. Погибла Ян Гуй Фэй — «Великая святая» и многие ее родственники. Убита была и «фаворитка Мэй» — «Лепесток Сливы». Ее тело нашли в чане со спиртом, закопанным в землю в сливовой роще на глубине всего лишь в три чи*. (*Чи — 32 см)
Неизвестно, как сложилась дальнейшая жизнь Чжа-на Лао, так же, как и судьба его командира Гао Сяньчжи.
Остается еще сказать о Зияде ибн Салихе. Будущее для него оказалось коротким. В 752 г. он поднял восстание против своего покровителя Абу Муслима и был убит. А в 755 г. Абу Муслим, наместник Хорасана и Средней Азии, был вызван во дворец халифа и коварно умерщвлен. Халиф аль-Мансур боялся возраставшего влияния бывшего раба.
И еще о судьбе одного человека хочется сказать несколько слов. Юный Хашим, сын Хакима. Единственно ему из всей арабской армии судьба уготовила великое, хотя и трагическое будущее. Через двадцать с небольшим лет вся Средняя Азия будет поднята на дыбы. Начнется небывалая по своим масштабам и социальной направленности война — война против арабских завоевателей и продавшихся им местных купцов и феодалов... Война за лучшую долю для бедняков. И возглавит ее вот этот самый паренек, родом из селенья Каза, что под Мервом.
В историю он войдет под именем Муканны.
Таласская битва имела огромное значение в судьбах народов Средней Азии.
После этого сражения китайцы не ступали на территорию региона почти тысячу лет. Арабы тоже недолго удержались. И среднеазиатские народы и племена смогли самобытно развивать свою культуру в течение многих столетий, не испытывая насильственного давления других культур.
© Аман Газиев, 2005. Все права защищены
© Плоских В.М., 2005. Все права защищены
Произведение публикуется с письменного разрешения В.М.Плоских
Об авторе повести — см. также статью В.Воропаевой "Под псевдонимом Аман Газиев"
Количество просмотров: 7526 |


