Главная / Художественная проза, Крупная проза (повести, романы, сборники) / — в том числе по жанрам, Исторические / — в том числе по жанрам, Сталинизм / — в том числе по жанрам, Про любовь / Главный редактор сайта рекомендует
Отрывок из романа публикуется с разрешения автора
Не допускается тиражирование, воспроизведение текста или его фрагментов с целью коммерческого использования
Дата размещения на сайте: 23 декабря 2013 года
Избиение младенцев
(Отрывок из романа)
Роман, работа над которым закончена автором в сентябре 2013 года, в декабре этого же года вышел в свет в американском издательстве FrancTireur, которое принадлежит известному писателю и диссиденту Сергею Юрьенену, живущему на Западе более 30 лет.
В своем отзыве Сергей Юрьенен, обращаясь к автору, отметил: «Вы большой писатель — перед лицом Вечности. Говорю хладнокровно... Книга великолепная. Достоевский бы одобрил, а я бы ее печатал в одном томе с «Бесами». Собственно, вы и есть Достоевский наших времен — после Освенцима, Колымы и красного террора. Но я говорю это не только как внук выпускника юнкерского корпуса и прапорщика, арестованного в Петрограде в 1918 году. Форма вовлекает так, что не оторваться от этих вихрей эпох».
Роман повествует о судьбах кадетов — учащихся московского кадетского училища в годы гражданской войны и последующие годы, на протяжении ХХ века. Эта книга — трогательное повествование о любви и дружбе на фоне жестокого столетия, история двух связанных между собой семей. Роман глубоко исторический, но, несмотря на это, в нём нашлось место и мотивам «магического реализма», и трагическому гротеску.
Издать роман в Кыргызстане на сегодняшний день, к сожалению, пока не удалось.
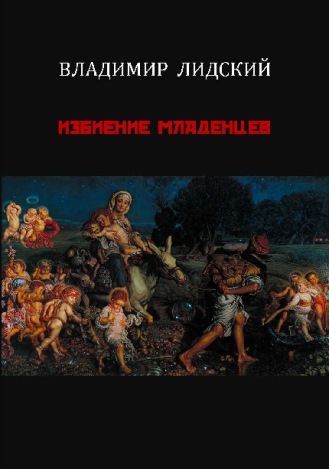
…Никита Волховитинов ранней весной 1918 года ушёл из дома вслед за Евгением. Вернувшись в семью после капитуляции корпуса, он прожил с родителями и сестрой совсем недолго, дождался только первой оттепели и в начале марта покинул Москву.
Он очень любил маменьку и папеньку, но расстаться с ними казалось ему совсем не страшным. Хуже, намного хуже обстояло дело с сестрой. Ники просто не мог себе представить, как он покинет её, ведь Ляля была для него не просто родною кровинкою, — он осознал это в последние месяцы, когда его странная привязанность к ней, граничившая с обожанием, настолько обострилась, что он минуты не мог провести без неё. Он ходил за ней по пятам, не мог отвести от неё глаз, вдыхал её молочно-лесной запах и говорил, говорил, без конца говорил с нею. Он столько слов сказал ей о любви к родителям, о своём драгоценном, потерянном до времени друге Саше, о дорогом Деде — генерале Римском-Корсакове, о полковнике Владимире Фёдоровиче Раре, о Ковале и Асмолове, об Удаве — штабс-капитане Новикове, о докторе Адаме Казимировиче, об отделенном дядьке фельдфебеле Епифанцеве, о капитане Скрипнике и есауле Караулове, о попугае Барбосе и о том, как весело было устраивать «бенефисы» корпусным воспитателям… о Невадовском, без пользы погибшем на страшном пустыре, о митинге офицеров в Александровском училище, о поручике Бельском и о Жене, который отправился на грузовике в опасное путешествие за оружием для погибавших кадет…
Она смотрела на него широко распахнутыми глазами, чуть приоткрыв алый рот, а он не мог остановиться и всё рассказывал что-то бесконечное, постоянно петляя вокруг гибели Саши и подробно описывая страшного матроса. «Кадет не станет на колени перед быдлом», — сказал Саша, и когда Ники в который уже раз повторял эту фразу, Ляля ещё шире распахивала глаза и в них появлялось такое страдальческое, такое отчаянное выражение, что ему самому хотелось зарыдать в голос.
Он уже понимал, что сестра для него больше, чем сестра, но духовное влечение к ней казалось ему более сильным, чем влечение физическое, хотя он и не мог без смущения и стыда смотреть на её зовущий рот, мягкие покатые плечи, красивую полную грудь и изумительные точёные щиколотки, внушавшие ему такое умиление, какое можно испытать только к щиколоткам младенца. Стыд пожирал его, когда, засыпая, он представлял себе рискованные картины с участием сестры… тогда он вставал с постели, подходил к иконам и долго молился, стирая колени на холодном паркете. Но Бог не помогал, стоило ему вернуться под одеяло, как полуодетая Ляля снова приходила к нему, и он принимался медленно её раздевать, снимать с неё остатки воздушных одеяний… «Ляля, Лялечка», — твердил он, замирая от воображаемых прикосновений, и слёзы выступали у него на глазах. Ники знал, что через две комнаты от гостиной, где он теперь ночевал, спит в прежней детской его любимая сестра и представлял себе её фигуру под одеялом в сбитой к животу сорочке, её раскинувшиеся по подушке волосы, её голую руку, откинутую в сторону… И так мучительно было сознавать, что она совсем рядом, в нескольких шагах, но подойти к ней, дотронуться до неё нельзя, невозможно, и эта пытка длилась и длилась, эта пытка желанием и стыдом бесконечно тянулась до тех пор, пока Ники, наконец, не залезал с головой под одеяло и не начинал яростно, испепеляя себя стыдом, но и распаляя своё воображение нескромными, а лучше сказать, бесстыдными картинами с участием сестры, любить самоё себя, нет, впрочем, не любить себя, а любить её, любить так, как может любить только человек, пытающийся вместить любимую в себя целиком, без остатка, без малейшей возможности оставить её миру… И наконец ему становилось немножко легче и он бежал в ванную комнату смывать свой позор, свою бесконечную печаль, свой ужас перед этой напастью, перед этой любовью не просто к женщине, а к родной сестре, которая заполняла всю его душу и не хотела давать покоя его телу. И укладываясь в постель, он плакал, снова плакал от умиления, от стыда, от невозможности что-либо изменить, от понимания того, что любимая скоро, очень скоро будет вырвана из его рук, что он сам покинет её, оторвёт от своего сердца, так и не прижав к своему телу, и холодный ветер истории унесёт его так далеко, что даже память о любимой будет трудна…
А Ляля по утрам, пробудясь ото сна, умывшись и причесавшись, выходила в гостиную и дарила Никите целомудренный сестринский поцелуй, от которого он приходил в ужас, потому что волна желания снова накрывала его. Он вдыхал запах её волос, ощущал прикосновение её нежных губ и чувствовал близость её горячего юного тела; кровь бросалась ему в лицо, он суетливо отвечал поспешным поцелуем и торопился отвернуться.
За окнами происходило что-то несусветное, родители сами боялись выходить на улицу и детей не выпускали. Почти целыми днями все сидели дома. Выходила время от времени только Лизавета, которая добывала кой-какие скудные продукты и приносила неутешительные новости. Родители весь день сидели в гостиной, играли в лото, но вдвоём играть в лото — недоразумение, поэтому частенько доставали шашки и задумчиво сражались, временами роняя язвительные реплики; иногда Серафима Андреевна, сидя на диване, вязала мужу носочки, а Алексей Лукич читал в кресле большевистскую газету и временами скептически хмыкал и издевательски щурился.
Ники с Лялей обычно сидели в детской и проводили время в бесконечных разговорах, которым не видно было конца. Ляля тоже очень любила брата, но никакого зова она не слышала, ей нравилось проводить с ним время и только. Однако она понимала, что Ники — это часть её самой, и если его не будет рядом, что-то в ней пострадает. Они и в детстве были очень близки, а в последний год брат стал для Ляли самым важным человеком, душа которого пульсировала рядом с её душой. Ей нужно было с ним разговаривать, делиться чем-то сокровенным и в ответ получать отклик. Она хотела слушать его истории, хотела вникать в его кадетский и человеческий опыт, хотела соучастия в его жизни. И они так совпадали, так чутко прислушивались друг к другу, так тонко были настроены на одну волну, что когда Ники не было рядом, на Лялю наваливалась смертная тоска. Ей очень нравился Женя, большой и мужественный взрослый мужчина и её даже тянуло к нему, но это скорее была тяга к сильному самцу, нежели к человеку. Стоило Ляле хотя бы издалека услышать Женин запах, как всё её существо начинало трепетать, и сердце сжималось от тоски в предчувствии его гипнотического взгляда и обжигающего прикосновения. Но в последнее время Ляля стала замечать, что такой же, если не более сильный трепет, она испытывает и рядом с братом, который уже давно заполнил всю её душу, занял все её мысли, — она постепенно начинала осознавать, что испытывает беспокойство и волнение, когда он находится рядом, и скучает, если он где-то вдалеке.
И вот как-то вечером они сидели в любимом с детства отцовском кабинете — рядышком на кожаном диване в окружении знакомых книг и в тепле застоявшегося пыльного воздуха, который, впрочем, с начала зимы сделался несколько прохладнее ввиду отсутствия дровишек для печей. Вокруг привычным порядком стояли книжные шкафы и стеллажи, и так же, как в детстве, таинственно проваливались в полутемноту глухие углы кабинета. Свет керосиновой лампы едва освещал широкий, старой работы дубовый письменный стол, как и прежде, как и всю жизнь заваленный рукописями, тетрадями и блокнотами, старинными безделушками, дагерротипами и фотографиями, на которых от века сидели и стояли, строго застыв перед фотографами, многочисленные представители семейства Волховитиновых.
Никита увлечённо рассказывал Ляле о взятии снежного городка, о коварстве Сергиевского-Глыбы и о том, как он отомстил за Сашу злобному переростку. Случайно он положил руку Ляле на бедро, не сразу осознал это и, лишь ощутив тепло её тела и угадав поворот её головы в свою сторону, замер и замолчал. Мгновение длилась эта пауза и вдруг Ляля накрыла руку Никиты своей рукой. Прикосновение брата обожгло её, она почувствовала внутреннюю дрожь; дыхание её сбилось, и жар бросился в лицо. Ники медленно повернул голову и посмотрел ей в глаза. Они казались бездонными в бархатной полутемноте кабинета, он смотрел в них и не мог оторваться… словно две циклопические воронки втягивали его в какую-то неведомую бездну… он погружался в них всё глубже и глубже, склонялся к её лицу всё ближе и ближе, и не было на белом свете силы, способной помешать этому сближению. Наконец его губы коснулись её губ, она закрыла глаза, и оба они полетели в бездну… он обнял её, и она ответила ему жарким объятием… головы у обоих закружились… Ники ощутил чудовищное напряжение всего тела и краем сознания оценил экстатическое состояние своей души; напряжение росло, ширилось, пытаясь выплеснуться из берегов, распирало всю его сущность, кричало, биясь в теснине тела и, не находя покуда выхода, металось в самых потаённых уголках его души и тела, но вот это напряжение вдруг лопнуло и страшное давление выплеснуло наружу раскалённую влагу… и всё, что копилось в груди у Ники, всё, что он хотел подарить своей любимой, весь мир, всего себя, — хлынуло такой же раскалённой влагой — из глаз! Он плакал на её плече от любви, от стыда, от своей несдержанности, от невозможности сохранить для единственной своей женщины нечто неизмеримо более важное, чем обыкновенное плотское желание, он плакал, не в силах ничего изменить, а она тихо утешала его, баюкая на своём плече, как маленького…
Из Петрограда Кирсан бежал в паническом страхе, потому что Предсовнаркома Ленин лично потребовал ареста и расстрела участников страшного ночного происшествия в Мариинской больнице.
Преступление свершилось в ночь с 7 на 8 января, а уже утром председатель Центробалта Дыбенко писал прокламацию «Объявление по флоту», в которой содержалось требование к матросам передать зачинщиков в руки правосудия. Министр юстиции Штейнберг и управделами Совнаркома Бонч-Бруевич срочно отправились к Ленину за указаниями.
Ильич топал ногами и орал, брызгая слюной; Штейнберг и Бонч-Бруевич стояли перед ним, словно провинившиеся ученики. Успокоившись, Ленин набросал текст телеграммы, адресованной в два десятка учреждений: «Немедленно объявить в розыск и арестовать преступников, дискредитирующих революционные завоевания народа!»
Через короткое время имена матросов и солдат, наследивших в Мариинской больнице, стали известны дознавателям, и восьмерых сразу же арестовали, но Оскара Крейса, Якова Матвеева и Кирсана Белых флотские экипажи, угрожая оружием, отказались выдать. Штейнберг просил у Ленина чрезвычайных полномочий и обещал с помощью пулемётного расчёта и небольшого отряда красногвардейцев силой захватить провинившихся матросов. Но Ленин медлил, а Кирсан в этой ситуации предпочёл не ждать у моря погоды, тем более, что зимняя Балтика не сулила ему ничего хорошего. Пока его вместе с Крейсом и Матвеевым скрывали в экипаже «Чайки», он дошёл до такого нервного истощения, что перестал спать и напрочь потерял аппетит. Не спавши и не евши несколько суток, держась на одном лишь кокаине, которого у матросов было в достатке, он решил вскоре, что ему следует бежать. Он понимал, что в экипаже его рано или поздно возьмут, а на широких российских просторах ему, может быть, удастся ещё побегать. Кирсан был из той породы никчёмных людей, которые дальше одного дня вперёд не смотрят, а если и смотрят, то ничего там, впереди, не видят, однако ввиду чрезвычайной для себя опасности он напрягся и просчитал свой возможный путь. Бежать нужно было на юг, лучше всего в Одессу, во-первых, потому, что там была неразбериха и чехарда властей, а во-вторых, потому, что Чёрное море могло предоставить неплохой шанс — там можно было бы попытаться найти подходящий транспорт в Константинополь. И Кирсан отправился в Одессу. Он должен был беречься патрулей, красногвардейских разъездов, опасаться белогвардейцев и целого сонма доморощенных батьков, которые так и норовили во всё время путешествия встать у него на пути. Перед тем как пуститься в опасную дорогу, Кирсан добыл из потайного схрона на Васильевском острове заветный сундучок, вытряхнул его на грязные тряпки и сделал из них некое подобие котомки, затянув золото смертельным узлом. Пока он пробирался на юг, этой котомкой, не зная, что именно находится в ней, пытались завладеть разные люди, но каждый раз, увидев гнилые оскаленные зубы Кирсана, отступали. Было понятно, что за свою грязную котомку этот человек, похожий на озлобленного, ободранного, голодного волка, будет сражаться до последнего и, израсходовав все силы и средства, без сомнения, в конце концов, вцепится этими гнилыми зубами в глотку противника. Его налитые кровью гнойные глаза были наполнены яростью смертника, и каждому, кто встречался на пути этого смердящего ублюдка, становилось ясно, что где-то под полой у него револьвер, а за голенищем сапога — нож; ну, а если он их утратит, то в случае надобности станет раздирать жертву ногтями…
Бог миловал его, а может, миловал Сатана, и через некоторое время он добрался до Одессы.
В Одессе Кирсан понял, что тут он никому не интересен, несмотря на то, что город в те дни контролировали красные. Здесь о нём никто не знал, и появление на расхристанных одесских улицах нового оборванца никого не заинтересовало. Мало ли что Ленин приказал? Где Москва и где Одесса?
Он ночевал в ледяных подъездах, жрал, что попало, или вообще ничего не жрал, сифилитические язвы мучали его, от него несло гнилью даже на морозе, но всё это его нисколько не волновало. Свой бушлат, бескозырку и брюки-клёш он поменял ещё в пути на рваный овчинный полушубок, мятые драповые брюки, которые были ему несколько велики и засаленную шапку-ушанку из утратившего определённость зверя. Выглядел он диковато, но подобных странных типов в те баснословные годы на российских просторах шаталось немало; он слился с основной массой революционного сброда и затерялся в ней.
Почти каждый день он ходил в порт и на обедневший Привоз, знакомился с матросами, солдатами, грузчиками, торговцами. Пытался знакомиться и с женщинами в надежде приткнуться где-то в тёплом местечке, но они пугались его страшного вида, его безумных воспалённых глаз, запаха, корявых рук и чёрных пальцев с засохшей под ногтями кровью. Солдаты и матросы принимали его за своего и свободно общались, хотя и без особой охоты. Однажды от кого-то из новых знакомых услышал он об одесской достопримечательности — старом шмуклере Менахеме Айзенберге, который владел лучшей в Одессе колониальной лавкой. Его знал весь город и звал запросто — дядюшка Менахем. Любому ребёнку, заходящему в его лавку, давали здесь непритязательный подарок, а взрослому всегда было приготовлено доброе слово, любезное обхождение и лучший товар. Дядюшка Менахем любил лично выйти в торговый зал и поговорить с клиентом о семье, детях, здоровье. Его лавка работала каждый день с раннего утра до позднего вечера, кроме, разумеется, шабата. Такая работа давала неплохие результаты, и все обыватели были убеждены, что дядюшка Менахем несказанно богат. Портовые завсегдатаи в один голос твердили Кирсану, что бывший одесский шмуклер владеет огромным ларцом, наполненным драгоценностями и надёжно спрятанным в потайных недрах особняка, добавляя при этом с хитрым прищуром, что в основе его капитальца была когда-то некая тёмная история с золотыми слитками, добытыми на кривых дорожках.
В лучшие времена дядюшка Менахем имел шикарный гешефт: в его лавке продавались апельсины из Марокко, финики из Аравии, кишмиш, курага и сухие груши из Туркестана, душистый перец, гвоздика, коричная кора, карри, кардамон, кумин и шафран из Индии, ароматнейший яванский кофе из Амстердама и золотой чай из Китая, гавайский ром, нормандский кальвадос и португальская мадера… Но в эпоху социальных катаклизмов знаменитая колониальная лавка была разбита и разграблена люмпенами, мародёрами и революционным отребьем, а сам дядюшка Менахем доживал последние дни в Одессе, пытаясь найти возможности для бегства в Америку.
Найдя по наводке дом дядюшки Менахема, Кирсан стал каждое утро приходить к его воротам. Прогулявшись разок-другой под окнами особняка, он обычно переходил на другую сторону улицы и, встав в тени древнего платана, терпеливо наблюдал за дверью дома, за входящими и выходящими людьми. Иногда менял место наблюдения, стараясь никому не попадаться на глаза. В этих наблюдениях провёл он недели две и выяснил в конце концов путём разных ухищрений, что дядюшка Менахем живёт в особняке с супругой, тётушкой Гитл, что в хозяйстве помогает им старая экономка, что одна дочь семейства живёт в Гурзуфе с маленьким ребёнком, рождённым неизвестно от кого, а другая находится в харьковском сумасшедшем доме. Попутно выяснилось, что в Харькове у дядюшки Менахема есть ещё одна колониальная лавка, в которой до времени заправлял его зять, некий Марк Маузер, коего Кирсан постановил также посетить по окончании дела с тестем.
И вот одним несчастным февральским днём Кирсан подошёл к двери особняка дяди Менахема и ледяной рукой взялся за бронзовый дверной молоточек. Он постучал и ему открыли. Открыл сам дядюшка Менахем, не пожелавший, очевидно, тревожить экономку. Он как будто совсем не удивился подобному визиту, хотя вид Кирсан имел, мягко говоря, необычный. Впрочем, дядюшка Менахем, вероятно, давно уже привык к подобным типажам и потому, нимало не смутившись, спокойно осведомился:
— Чем могу служить, товарищ?
Сказал он это с тем же самым выражением, с каким говорил, бывало, «чем могу служить, милостивый государь?»
— Ты мне послужишь, тварь пархатая! — шёпотом сказал Кирсан и вынул из-за пазухи пистолет.
— Помилуйте, товарищ, — спокойно возразил дядюшка Менахем, — ведь это вы пархаты, грязны и нанесли в мой дом какой-то отвратительной заразы…
При этих словах он изящным жестом, преисполненным гордого достоинства и отточенным за десятилетия, поправил галстук-бабочку на шее, а потом вынул из нагрудного кармана бархатного халата благоухающий дорогими духами белоснежный платок и нежно промокнул лёгкую испарину, покрывшую, несмотря на прохладу прихожей, его выпуклый лоб. Но Кирсан ничего не услышал. Он поднял свой пистолет и приставил его дуло к переносице дяди Менахема.
И тут он увидел себя со стороны: вот он стоит в точно такой же позе, приставив пистолет к потному лбу пожилого человека в больничной пижаме, только вокруг него — не интерьер прихожей богатого и ещё не разграбленного особняка, а бедная казённая обстановка Мариинской больницы и с ним рядом — разгорячённые матросы и красногвардейцы, жаждущие крови и человеческого мяса. Рука его дрожит от возбуждения, и дуло пистолета ходуном ходит по влажному лбу жертвы. Он делает слабое усилие, нажимая на курок, и знает, что сейчас, вот прямо сейчас, через долю секунды чужая горячая кровь ударит в его лицо, брызнет обжигающими каплями, позволив испытать благоговейный ужас перед этим мистическим действом… и всё его существо содрогнётся в судорожном пароксизме, сильнее забьётся сердце и ослабеют ноги, он на мгновение потеряет сознание и волна тёплого, несказанного, невыразимого наслаждения накроет его… и ему станет легче… он посмотрел в глаза дядюшке Менахему и увидел, как…
… толпа грязных вооружённых людей быстро идёт по полутёмному коридору, сопровождаемая громадными уродливыми тенями. Тени пляшут на стенах и потолке, как чёрные дьявольские языки, слизывают пространство, глумясь и кривляясь. Лампа раскачивается в руках матроса, идущего впереди, и освещает путь всей процессии. Лязг винтовок и тихий мат сопровождают это шествие. Матрос Крейс из числа замыкающих пытается пробиться вперёд, в авангард матросской толпы, и глухо кричит, давясь эстонским акцентом. Подойдя к 27-ой палате, матросы останавливаются, замешкавшись, но стоящих возле дверей бесцеремонно расталкивают Кирсан и его товарищ Яков Матвеев. Кирсан изо всех сил бьёт ногой в дверь и врывается в палату. Шингарёв сидит на кровати, молится перед сном. Рывком Кирсан поднимает больного на ноги и впечатывает дуло пистолета в его высокий лоб. В нетвёрдом боковом свете керосиновой лампы видно, как на висках Шингарёва блестят капли пота…
Сидевшие в Трубецком бастионе бывшие министры Временного правительства, всё ещё не осознававшие до конца сущности происходящего и не способные выбраться из паутины иллюзий, всё писали и писали какие-то просьбы и петиции, а в конце ноября додумались до коллективного обращения к Председателю Учредительного собрания, в котором подтверждали верность правительству и костили почём зря большевиков, отказываясь признавать законность их власти. Узнав о петиции и намерении её опубликовать, большевики взъярились. Последовала отмена свиданий и передач, условия содержания узников ухудшились.
Почти одновременно свежеиспечённая ВЧК раскрыла кадетский «заговор», и Совет народных комиссаров немедленно издал декрет, объявлявший лидеров партии вне закона. Это означало скорое пришествие репрессий, вплоть до расстрелов, и все сразу поняли явный смысл большевистского декрета. Кадетским лидерам, депутатам Шингарёву, Кокошкину и князю Долгорукову также немедленно ужесточили условия содержания. Туберкулёзного Кокошкина посадили в сырую камеру, Долгорукова заточили в одиночку, припомнив вдобавок его руководящую роль в организации борьбы против большевиков в Москве, Шингарёву, больному, уже в летах человеку, накануне потерявшему жену и находящемуся в состоянии сильнейшего душевного волнения и апатии, отказывались предоставить медицинскую помощь. В конце концов, состояние здоровья Шингарёва и Кокошкина настолько ухудшилось, что большевистское руководство проявило, наконец, милость и разрешило перевести узников в Мариинскую тюремную больницу.
Между тем, флотский экипаж «Чайки», где обосновался Кирсан, ночи проводил в пьянках и оргиях, а днём выходил на охоту, чтобы добыть спирту, кокаину и денег. Здесь же находились матросы «Ярославца». Поздним вечером шестого января матросы упились до полусмерти и, сидя в экипаже, растравляли себя безумными разговорами о врагах народа. Из одного угла помещения рвалась захлёбывающаяся мелодия гармошки и раздавались страшные крики танцующих матросов, которые в диких плясках пытались избыть свою невыносимую тоску, в другом углу матросская пьянь терзала продажных девок и оттуда доносились вопли сладострастия и боли, а вокруг большого стола сидели со стаканами в руках потные расхристанные матросы и кричали, горячечно перебивая друг друга:
— Они нам, твари, пускай ещё за девятьсот пятый год ответят! Мы им вспомним «Потёмкина» и «Очаков»!
— А кто в товарища Ленина стрелял?
— Зря их, что ли, врагами народа объявили? Как есть враги!
— Резать их, товарищи!
— Карточки на хлеб останутся! Пусть дети его съедят, а не эти суки!
Кирсан, ещё с вечера медленно наливавшийся злобой, в который уже раз махнул полстакана спирта и вдруг почувствовал, как волна бешенства поднимается в нём и начинает захлёстывать его сознание. Он вскочил и, разрывая на своей груди тельняшку, заорал:
— Резать их, братишки, резать! Айда в Мариинку!
Распалённые матросы, повскакав с мест, ринулись к дверям.
Они бежали по улицам среди метельных вихрей в праведной революционной ярости, и колкий ледяной ветер жалил их воспалённые лица, острые льдинки впивались в щёки, и пурга пригоршнями бросала снег им навстречу. Они несли винтовки и револьверы так, будто оружие было их единственной религией, так, как носили свои кресты праведники веры — с гордым достоинством и фанатизмом; они знали, что применение этого оружия есть символ их служения божеству народного гнева, символ жертвоприношения во имя революции, и холодный металл смерти раскалялся в их руках и обжигал им ладони.
Они хладнокровно выставили караулы на соседних улицах и с грохотом вломились в больницу. Перепуганные сторожа и санитарки вжимались в стены, когда матросы, охваченные яростью, неслись по коридорам. Солдат Басов, несколькими часами ранее возглавлявший конвой, который доставил арестантов из Петропавловки, знал расположение палат и уверенно повёл товарищей на третий этаж, где лежали Шингарёв и Кокошкин. Кто-то из матросов вырвал из рук сторожа керосиновую лампу, и толпа вооружённых людей пошла ещё быстрее, сопровождаемая громадными уродливыми тенями. Тени плясали на стенах и потолке, как чёрные дьявольские языки, слизывали пространство, глумясь и кривляясь. Лампа раскачивалась в руках матроса, шедшего впереди, и освещала путь всей процессии. Лязг винтовок и мат сквозь зубы сопровождали это шествие. Матрос Крейс из числа замыкающих пытался пробиться вперёд, в авангард матросской толпы, и глухо кричал, давясь эстонским акцентом. Подойдя к 27-ой палате, матросы на мгновение замешкались, но стоящих возле дверей бесцеремонно растолкали Кирсан и его товарищ Яков Матвеев с «Ярославца». Кирсан саданул ногой в дверь и ворвался в палату. Шингарёв сидел на кровати, молился перед сном. Рывком Кирсан поднял больного на ноги и приставил пистолет к его лбу. В нетвёрдом боковом свете керосиновой лампы было видно, как на висках Шингарёва заблестел пот.
— Чего вы хотите, братцы? — в смятении спросил он.
— Чего мы хотим? — насмешливо повторил за ним Матвеев и, схватив депутата за исподнюю рубаху, развернул к себе. — Он ещё спрашивает! Твою душу мы хотим!
С этими словами Матвеев изо всех сил ударил Шингарёва кулаком. Тот рухнул на кровать, но ему не дали опомниться: к постели подскочил здоровенный Крейс и схватил депутата за шею. Его огромные ручищи сжимали горло потемневшего лицом и хрипящего Шингарёва, но тут Кирсан оттолкнул эстонца и со страшным криком «довольно вам нашу кровь пить!» стал, дёргая рукою, палить в полузадушенного человека из своего маузера. Остальные матросы тоже принялись стрелять и надсаживали свои пистолеты, револьверы и винтовки не менее минуты, — не переставая, не останавливаясь в своём страшном, противоестественном увлечении…
Через мгновение, поняв, что нужно идти дальше, они гурьбой ринулись в коридор и ворвались в палату напротив, на двери которой была табличка «24». Навстречу им поднялся встревоженный Кокошкин. Он не успел сказать ни слова, — Крейс и Матвеев одновременно начали стрелять. Стреляли и другие; Кокошкин повалился на пол. Кирсан прицелился и выстрелил ему в рот. Когда пальба стихла, в сизом дыму ствольных выхлопов вперёд выдвинулись чьи-то винтовки, и трёхгранные жала тускло блестевших штыков принялись яростно жалить уже мёртвого депутата.
Сделав своё кровавое дело, матросы сразу успокоились, сникли и даже почувствовали апатию, их уход из больницы уже не сопровождался криками и воплями, только Кирсан всё ещё возбуждённо что-то выкрикивал и плакал, размазывая слёзы по грязной роже. Они вышли в метель и спокойно побрели по заметённой пургою улице, опустошённые и разочарованные. Они жаждали крови, и эта жажда была утолена сверх меры, но души их вдруг заныли в предчувствии Божьего внимания и испытали страх Божьего возмездия. Они не боялись человеческого суда, ибо знали, что мир принадлежит им и вся эта многострадальная страна тоже принадлежит им, что им всё дозволено и что революционные демиурги никогда не оставят их своею милостью, потому что кровавыми руками испокон веков добывались власть, могущество и блага мира.
А сами демиурги, эти капитаны обречённых судов, стояли на капитанских мостиках своих кораблей и зорко глядели вдаль, пытаясь рассмотреть сквозь кровавое зарево рассвета какие-то новые цели, какое-то новое, невиданное счастье. Палубы судов занимали соратники, закалённые и стойкие бойцы, такие же фанатики, как и сами капитаны, а в глубоких и тёмных трюмах теснились миллионы рабов, молчаливо и покорно отдающих свои души и тела, — безвольно, безропотно, безвозмездно.
Капитаны стояли на капитанских мостиках, и один из них, никого не стесняясь, рассказывал соратникам о необходимости создания концлагерей, другой излагал экономическую теорию, согласно которой грядущее счастье можно построить только на голодный желудок, третий объяснял, почему по мере продвижения к всеобщему процветанию классовая борьба крепнет, а четвёртый и самый главный во весь голос истерично призывал к созданию института социального истребления… Их было много, этих капитанов, и каждый из них тянул свою песню.
А корабли всё плыли и плыли по бесконечной воде, — насквозь продуваемые ледяными колымскими ветрами, обросшие болезненными опухолями ракушек, пронизанные метастазами невиданных водорослей, — прямо в ад, в клокочущую нездешним кипятком бездну, в ревущую тысячеградусную пропасть, где нет пощады никому, никому…
Наркомюст Штейнберг в волнении стоял перед Ильичом и, горячась, нелепо размахивая руками, почти кричал:
— Владимир Ильич, восьмой пункт декрета противоречит всеобщим гуманистическим принципам. Нельзя расстреливать людей на месте преступления! Кто измерит на этом месте степень злоумышления, осознает его направленность, тяжесть, кто квалифицирует деяние и определит, было ли оно вообще? Нельзя так расплывчато и расширительно определять лиц, подлежащих уничтожению! Да эдак, вы, пожалуй, всех постреляете!
— Э-э, батенька, — возражал Ильич, — я ввожу эту меру как охранительную только во имя революционной справедливости и народного правосудия! А как же иначе? Вы посмотрите, сколько вокруг врагов!
— Владимир Ильич! — пытался достучаться до него Штейнберг. — Это махровая полицейщина! Подумайте о террористическом потенциале восьмого пункта!
— Да как вы можете, в конце концов, возражать! — в возмущении повышал голос Ильич. — Снимите же белые перчатки, ведь мы с вами не смольные девицы!
— Нет, Владимир Ильич, воля ваша, я не понимаю подобных мер! Да нас Европа осудит! Любой либерал вставит нам это лыко в строку!
— Знаете что, Исаак Захарович, любезный друг мой? Я вам прямо скажу, без обиняков: говно все эти ваши европейские либералы! Расстреливать врагов и вся недолга!
— Увольте, Владимир Ильич! Зачем тогда нам вообще комиссариат юстиции? Давайте назовем его честно: «комиссариат социального истребления», и дело с концом!
Лицо Ленина осветилось внезапной радостью.
— Как хорошо, как ёмко сказано! Именно так и надо бы его назвать!
Разве видели они, эти высоколобые «интеллигенты», тасующие миллионные человеческие колоды, малую песчинку индивидуальной судьбы, чью-то простреленную голову, чьи-то вывернутые карманы, чьи-то окровавленные серьги, только что вырванные из ушей, разве видели они одурманенного алкоголем и кокаином, завшивевшего Кирсана Белых, с маузером в руках стоящего против дяди Менахема? А между тем, Кирсан стоял возле него и буравил вспотевший лоб старика стволом пистолета. Он стоял в абсолютной уверенности, что через несколько минут станет обладателем драгоценностей, накопленных проклятым эксплуататором за десятилетия беспрерывного грабежа простого народа.
Дядя Менахем с отвращением вдыхал миазмы его немытого тела и пытался отвернуть лицо от смрадного дыхания непрошенного гостя. Но Кирсан всё наступал и наступал, не торопясь раскрыть цели своего визита, потому что ему нравилось наблюдать, как жертва потеет и извивается, тщётно пытаясь спастись от неминуемой расправы. Он видел подобное уже многажды и всякий раз ему хотелось продлить эти минуты особого, ни с чем несравнимого наслаждения. Он наступал, делая мелкие шажки вперёд, и нарочно дышал дяде Менахему в лицо, а дядя Менахем пятился и беспомощно поглядывал по сторонам, пытаясь отвести взгляд от колючих зрачков Кирсана. Но вот он взглянул гостю в глаза — прямо и дерзко и даже с каким-то любопытством, — и Кирсан на мгновение растерялся, нутром почуяв тайный подвох. Этой доли секунды дяде Менахему хватило на то, чтобы сделать неуловимое движение, и Кирсан даже не осознал его. Он просто ощутил сильный болезненный удар откуда-то снизу, как будто громадной тяжёлой дубиной ударили его по животу, а следом услышал странный громкий хлопок, и в нос ему шибануло знакомым пороховым выхлопом; он отступил на полшага и ощутил резкую боль в животе. Дядя Менахем стоял и молча смотрел на него без интереса и без участия, так, как смотрят на встретившееся в пути дерево — равнодушно и неопределённо. Кирсан обеими руками схватился за живот и снова отступил. Опустив глаза, он увидел сочащуюся из-под полушубка кровь. Дядя Менахем поднял прямую руку, и ствол его браунинга упёрся в лицо Кирсана.
Кирсан захлебнулся кровавыми пузырями. Тьма застилала его глаза... он с трудом повернулся и выбежал из дома. Уже миновав дальний платан на противоположной стороне улицы, он услышал звук второго выстрела и ощутил сильный удар в левое плечо…
Он бежал по розовым плитам одесских переулков, пытаясь удержать в руках свои расползающиеся внутренности, бежал, не осознавая гибельности своего бега и не понимая, что жизни его осталось совсем немного, что весь свой алкоголь он уже выпил, весь свой кокаин уже вынюхал, всех, кого хотел замучить — замучил, — и больше не будет замученных в его жизни, — что всё награбленное ему не пригодилось и никогда впредь не пригодится, что сифилис, которым наградили его матросы «Стремительного», через какой-то, может быть, час умрёт вместе с ним и не будет больше терзать его измученное тело, что мозг его, искорёженный дефективными генами и отравленный разрешённой жестокостью, скоро умрёт, протухнет и будет сожран алчными плотоядными червями…он ничего этого не понимал, а вперёд его гнал только животный страх, желание забиться в какую-нибудь нору да крепкая вера в чудо, которая давала надежду на спасение и … бессмертие?
Он выбежал к морю, которое набрасывало на прибрежные камни хрусткие куски льда, и стал метаться по берегу, оскальзываясь на грубой обледенелой гальке в поисках укрытия. Вдалеке, завёрнутый в небольшой береговой порожек, словно в грубый лист вощёной бумаги, стоял заброшенный рыбацкий домик. Кирсан бросился туда, как будто бы там могли быть спасение и помощь. Вбежав, он увидел запустение необитаемого местечка, хлам, мусор, обрывки полусгнивших сетей, покорёженные поплавки, рыбьи скелетики и горы чешуи. В разбитое окно дул ледяной влажный ветер. Резко пахло подгнившей рыбой. Кирсан забился в узкое пространство между лавкой и колченогим столом, скорчился, баюкая рану и лелея пробитый пулею живот. В надежде унять боль он начал негромко выть, и боль, действительно, несколько притупилась. Он почувствовал успокоительную слабость, и липкая дремота стала одолевать его; закрыв глаза, он вдруг увидел себя сидящим возле костра в тёмном подмосковном лесу рядом со светящейся невдалеке полянкой, услышал фырканье стреноженных лошадей и ощутил слегка знобкий ветерок, насыщенный хвойными и лиственными ночными ароматами. Напротив него сидели господские дети — уже взрослый парень… как же его звали... кажется, — Женя, Евгений, рядом с ним – младшие… имён не помню… а с другой стороны – девочка, хрупкая девочка с огромными удивлёнными глазами… Лена? Лина? Лана? …Ляля! Лялей звали эту маленькую девочку, и именно ей Кирсан рассказывал свои страшные истории про упырей и русалок, жуткие волшебные сказки и кровавые байки о полумифических разбойниках; в бушующем костре плясали иллюстрации к этим историям, и дети заворожённо смотрели в гудящее пламя… Кирсан поглядывал на Лялю через костёр и страшным голосом добавлял всё новые и новые жуткие подробности, а Ляля дрожала то ли от страха, то ли от ночного холода и всё цеплялась ручонкой за колено Жени. Со стороны костра было тепло и даже жарко, а со стороны леса тянуло властным ночным холодком. Истории становились всё страшнее, Ляля дрожала всё больше и, в конце концов, ткнувшись кудрявой головой в женину грудь, что-то горячо зашептала ему в страхе… Кирсан вздохнул и открыл глаза. В полудремоте, в туманном мареве февральского моря, в клубящемся мороке потустороннего пейзажа увидел он нечёткие фигуры, которые одна за другой входили в хибарку. Первая фигурка была маленькая, другие побольше, они входили и входили, и вскоре заполнили всё тесное пространство рыбацкого домика. Было непонятно, как такое количество людей поместилось на нескольких квадратных метрах небольшого помещения. Кирсан всё никак не мог разглядеть их, фигуры расплывались, лица медленно вибрировали, и понять, кто именно пришёл, было решительно невозможно. Но Кирсан напрягся, что причинило ему дополнительные страдания, и усилием воли заставил себя пристальнее вглядеться в неожиданных пришельцев. Он думал, что это какая-нибудь спасательная команда, может быть, врачи, он думал, что это люди, которые заберут его отсюда, привезут в больницу и извлекут из его живота смертельный свинец, глухо ворочающийся среди кишок и рождающий такую боль, такую боль… Но то были не врачи, то были иные посланцы. Когда маленький человечек, появившийся первым, подошёл поближе, Кирсан мгновенно узнал его, — это был худенький кадет, встреченный им в Москве, между Спиридоньевкой и Малой Бронной, тот самый, который перед смертью дерзко сказал ему: «Кадет не встанет на колени перед быдлом!» Мальчишка был бледен лицом и пугал чёрной дырой во лбу, обрамлённой венчиком запёкшейся крови, перемешанной с зеленоватыми пороховыми крупицами. Рядом с ним стояли колеблющиеся окровавленные фигуры Шингарёва и Кокошкина, стоял с какой-то бумагой в руках полковник Пекарский, стояли размытые безымянные люди в пальто с бобровыми воротниками и дамы, одетые, несмотря на мороз, в платья с глубокими декольте. Дамы протягивали Кирсану руки, словно бы подставляя их для поцелуев, и он видел вывернутые, переломанные пальцы, которые с ужасом узнавал, — то были пальцы, изувеченные им, Кирсаном, когда он снимал с них драгоценные кольца! Рядом с бобровыми воротниками и декольте стояли девушки и девочки в изорванном белье, перепачканном кровью и спермой, а из-за их спин выглядывали и всё пытались выдвинуться на авансцену боцман Клюев с офицерским кортиком в сердце и Жорж Железняков, который судорожно дёргал головой оттого, что на шее у него зияла круглая чёрная рана, наполненная студенистой сукровицей… Маленький кадет подошёл ещё ближе и протянул руку. В этот момент Кирсан почувствовал чудовищную боль, и в глазах его закрутился волшебный калейдоскоп — со страшной быстротой сменялись в поле его зрения хмурое облачное небо, край обледенелого моря и неестественно увеличенная серо-белая галька прибрежной полосы. Он понял, что голова его катится по берегу, и убедился в этом, заметив среди стремительных цветных просверков кровавый след, тянущийся позади… потом движение прекратилось, и он увидел невдалеке своё безголовое тело, на которое вдруг с воем и рёвом набросились призраки… как больно стало ему, когда они принялись рвать его плоть… в его воспалённых гнойных глазах появились слёзы и медленно поползли вниз, оставляя на грязных щеках светлые дорожки… тут он увидел, как бежит к нему маленький кадет, приближается и с радостной улыбкой, демонстрирующей спортивный азарт и небывалый физкультурный кураж, замахивается ногой… в глазах Кирсана начинают попеременно мелькать море и небо… небо и море… бурая морщинистая водная гладь, сдобренная белой солью пенных барашков, и серо-сизое небо с толкающими друг друга облаками… и вот с глухим булькающим звуком он погружается в обжигающую холодом пучину и среди мутной воды видит огромные розовые пузыри в окружении кружева более мелких… медленно погружается всё глубже и глубже, сумерки сгущаются, превращаясь во тьму, тьма схватывается неподвижным чёрным цементом, и наконец вселенская ночь проглатывает его…
© Владимир Михайлов (Лидский), 2013. Все права защищены
Отрывок из романа публикуется с разрешения автора
Количество просмотров: 3163 |


