Главная / Художественная проза, Малая проза (рассказы, новеллы, очерки, эссе) / — в том числе по жанрам, О детстве, юношестве; про детей / — в том числе по жанрам, Юмор, ирония; трагикомедия / — в том числе по жанрам, Художественные очерки и воспоминания
Произведение публикуется с письменного разрешения автора
Не допускается тиражирование, воспроизведение текста или его фрагментов с целью коммерческого использования
Дата размещения на сайте: 11 ноября 2008 года
Детство мое, постой!..
Из книги «Невыдуманные истории / 60 коротких рассказов»
В книге представлены короткие рассказы, написанные доцентом Кыргызско-Российского Славянского университета, заслуженным деятелем культуры КР Андреем Кузнецовым. Это первое обращение автора – известного в республике музыковеда, исследователя кыргызской музыки и лингвиста – к данному жанру. В основу рассказов положены реальные события, имевшие место в жизни.
Рецензент и автор предисловия: заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, профессор А.Г.Зарифьян
Публикуется по книге: Кузнецов А.Г. Невыдуманные истории: 60 коротких рассказов / Предисловие А.Зарифьяна. – Б.: Илим, 2005. – 140 с.
К 89
ISBN 5-8355-1441-7
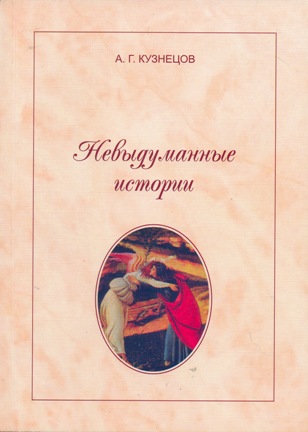
Друзьям юности – Алмабеку Баимбекову,
Евгению Габба, Эмилю Джангирову,
Виктору Факторовичу и Яну Складману
посвящаю
«Мойша, догоняй маму!»
Это произошло в Одессе вскоре после окончания войны. Мой отец читал лекции в университете, и мы с мамой иногда заходили к нему на работу. Рядом с университетом находилось общежитие, которое временно было переоборудовано под военный госпиталь. Каждый раз, проходя мимо общежития, мы видели в его окнах раненных бойцов. Стояло лето, ярко светило солнце, и лицезрение редких прохожих было, по-видимому, для больных одним из способов времяпровождения и развлечения.
Мне в ту пору исполнилось пять лет, а маме – чуть более тридцати. У нее были шелковистые черные волосы и стройная осанка. Обычно ее принимали за еврейку, хотя она была русской. Когда мы проходили мимо госпиталя, что-то отвлекло мое внимание, и я отстал от матери. Заметив, что сына нет рядом, мама остановилась и позвала меня. Тогда один из раненных решил побалагурить; он свесился с окна и, мастерски копируя еврейский выговор, сказал нараспев:
– Эй, Мойша, догоняй маму!
Его реплика развеселила других больных, заполнивших, казалось, все окна огромного госпиталя. Однако, вместо того чтобы промолчать, моя мама решила внести ясность в ситуацию:
– Между прочим, он донской казак!
– Ну, как же, как же – не замедлил с ответом находчивый раненный, – все вы теперь донские казаки!
Улицу потряс гомерический хохот. Похоже, смеялись все больные, находившиеся в тот момент на лечении. Правда, смеялись незлобно, так, ради развлечения. Не вступая больше в полемику, мама подхватила меня за руку и увела прочь.
Четыре глагола на -ать
В самом начале пятидесятых годов мы переехали жить во Фрунзе, где я стал учиться в одной из средних школ города. Когда я перешел в пятый класс, у нас появился новый учитель русского языка. Это был прелюбопытнейший тип – звали его Корней Федотович. Маленького роста, сморщенный, в очках, он был уже далеко не молод и большую часть времени пребывал в благодушном настроении. Свой предмет он знал, скажем, неважнецки, но с учителями в те годы было плохо, вот и учил он нас «чему-нибудь и как-нибудь». Поговаривали, что за диктант, написанный им при проверке учителей, организованной Отделом народного образования, он получил «двойку». Но мы, ученики, конечно, этого не знали и верили своему чудаковатому учителю.
Корней Федотович был вспыльчивым человеком – вывести его из себя не составляло особого труда. Более того, как большинство низкорослых людей, он был обидчив и злопамятен. Со своими обидчиками он расправлялся своим методом. Например, подходил к парте, за которой сидел допекавший его ученик, и как бы случайно клал свою грубую мужскую длань на хрупкую руку проказника. Затем, продолжая что-то объяснять, он наваливался на эту руку всей тяжестью своего тела. Кисть ребенка, прижатая к парте, оказывалась, словно под прессом. Оробевший проказник пытался освободиться, но не мог, а мучитель продолжал давить, искоса поглядывая на свою жертву. На глаза ребенка наворачивались слезы, но коварный учитель, наслаждаясь местью, все еще не прекращал пытку. Наконец, экзекуция завершалась, и удовлетворенный Корней Федотович, как ни в чем не бывало, продолжал урок. Естественно, никто ничего не замечал.
Оригинальны были и методы преподавания учителя. Как-то Корней Федотович объяснял спряжение глаголов. Там были какие-то исключения, которые нужно было заучить – семь глаголов на -еть и четыре на -ать. Чтобы их легче было нам запомнить, изобретательный педагог разыграл для нас целую сценку:
– Вот четыре глагола на -ать: слышать, дышать, держать, гнать. Вы должны их запомнить. Представьте: я сижу за столом и объясняю урок, а Спигин – известный хулиган и бездельник – разговаривает и мешает мне. То, что он болтает, я слышу, – и Корней Федотович загибает первый палец.
– Я хмурю брови, стучу по столу карандашом, но Спигин не унимается. Я начинаю взволнованно дышать, – продолжает учитель и загибает второй палец. – Затем я подхожу к нарушителю и поднимаю его с парты, держа его за воротник. – В ход идет третий палец.
Увлекшись рассказом, Корней Федотович и в самом деле подходит к Спигину и хватает того за шкирку. Спигин с удовольствие «подыгрывает» учителю. Далее Корней Федотович ведет ученика через весь класс к двери и сильным толчком руки вышвыривает его вон из класса. Спигин чуть ли не лбом раскрывает дверь и с грохотом вылетает в коридор.
– И гоню его прочь! – завершает свой рассказ находчивый учитель.
Довольный собой, Корней Федотович с победным видом оглядывает класс и возвращается за свой стол. Звенит звонок – урок окончен.
Дядя Коля, стихотворец
Когда мне исполнилось одиннадцать лет, к нам приехал дядя Коля. Его семья осталась жить в небольшом провинциальном городке у самой границы с Китаем, а он отправился на поиски счастья и лучшей доли, и его выбор пал на наш город. Приехал он налегке – весь его багаж состоял из чемодана и тромбона. Бывший фронтовик, он обладал хорошим музыкальным слухом и зарабатывал на жизнь, руководя самодеятельными духовыми оркестрами, Позже он освоил профессию музыкального мастера-настройщика. В то время ему стукнуло тридцать семь. У дяди была приятная внешность – он следил за собой, старался быть элегантным: носил шляпу и перстень с большим темно-красным аметистом – подарок моей матери. Внешне дядя Коля чем-то напоминал одного из популярных в то время голливудских артистов. По крайней мере, он выглядел таким на одной из фотографии, где был снят в профиль и в шляпе. Иногда он дарил эти фотопортреты своим подружкам, сопровождая их романтичными словами: «Вспоминайте порою, коль я этого стою».
Итак, дядя Коля поселился у нас. Днем он работал в музыкальной мастерской, а вечером тщательно брился, надевал новый костюм и шел в кино или на танцы. По своей натуре мой родич был настоящим донжуаном. В своем городке, где у него была семья, и все жители знали друг друга в лицо, он не имел возможности проявить свои способности, здесь же его ищущая острых ощущений натура, наконец, вырвалась на свободу: дядя Коля «загудел». Нет, он не пил – его интересовали только женщины. Очаровать какую-нибудь простенькую девушку ему не составляло никакого труда. Он был обаятелен, элегантен, остроумен. Иногда дядюшка приводил к нам свою очередную подружку, садился за пианино и страстным голосом пел для нее куплеты из только что вышедшего на экраны кинофильма «Свинарка и пастух»: «Играй, играй, моя гармошка, катись, катись, моя слеза»… Девушка смотрела на него широко раскрытыми влюбленными глазами, и ее судьба была предрешена.
Естественно, с подружками нужно было где-то встречаться: к нам он их приводил редко и лишь для того, чтобы покрасоваться за пианино. Иногда он обращался за помощью к друзьям, и те давали ему ключи от квартиры. Один из них жаловался потом, что дядюшка сломал ему диван и даже не извинился, не говоря уже о материальной компенсации.
Девушек дядя Коля менял, как перчатки – я еле успевал запоминать их имена. Не знаю по какой причине, но мой родич неожиданно ударился в поэзию – стал писать своим дамам стихи. Большинство из этих виршей носили юмористический характер и имели посвящения: «Клаве», «Зине», «Люде» и т.д. Особенно досталось Клаве – дядя был с ней в ресторане, где она выпила лишнее – все это и было описано в стихотворной форме, причем в создании виршей автору нередко помогал мой отец – у дяди не все ладилось с рифмой. Стишки, содержавшие немало пикантных подробностей, отправлялись затем адресату. Были, правда, и лирические строки, и заверения в любви – здесь дядя был неистощим. Все стихи автор аккуратно переписывал в общую тетрадь, которая вскоре была исписана почти до конца. Дядя бережно хранил ее, но все тайное рано или поздно становится явным: спустя несколько лет, когда он уже жил в нашем городе с семьей, злополучная тетрадь была найдена его женой. Комментарии излишни: моральный облик неверного супруга и его жизненное кредо раскрылись для нее во всей своей полноте.
Со временем страсти поулеглись, дядя был прощен, а его тетрадь стала своеобразной «хрестоматией» для домашнего чтения. Нередко случалось, что в свободное время, когда сам автор был на работе, пресловутая тетрадь извлекалась на свет божий, и члены дядиколиной семьи, по очереди, а то и коллективно, развлекались чтением этих незамысловатых и довольно легкомысленных стишат. Дядя об этом, естественно, не знал.
«Жил-был у бабушки…»
Перейдя в шестой класс, я стал учиться в третью смену, которая начиналась примерно в половине пятого. Школы тогда были небольшие, вот и изыскивала дирекция способы, как организовать занятия при небольшом количестве классов и все возрастающим потоком учащихся (в послевоенные годы рождаемость заметно увеличилась). Обычно в третью смену учились старшеклассники, но в тот год неизвестно по какой причине в нее попали и ученики шестых классов.
Зимой темнело рано, а после восьми часов, когда заканчивалась смена, было уже совсем темно, как ночью. Мы шли гурьбой по слабо освещенной почти безлюдной Пионерской улице, одни мальчишки – школа была мужской – и чтобы как-то развлечься и приободрить себя, громко, на всю улицу распевали песню про бабушку и ее любимца-козлика. Один из нас выступал в роли солиста. Громким по-мальчишески пронзительным голосом он лихо запевал: «Жил-был у бабушки…». «Гоп-ца-ца», – весело подхватывали мы. «Серенький козлик…», – продолжал запевала. «Да два яйца!», – заканчивал куплет хор. Второй куплет исполнялся с еще большим воодушевлением: «Бабушка козлика… гоп-ца-ца!.. Очень любила… за два яйца!» В таком же духе, все с возрастающим энтузиазмом пропевались последующие строфы. Однако самым любимым был заключительный куплет, который мы пели с особым удовольствием:
– Остались от козлика…
– Гоп-ца-ца!
– Рожки, да ножки…
– Да два яйца!
Все это распевалось громко, азартно, во всю силу молодых легких, причем не обращалось никакого внимания на редких прохожих, которым, впрочем, тоже никакого дела не было до детских шалостей и забав. Но однажды все же нашелся человек, который попытался приостановить это безобразие. Только мы дошли до куплета «Остались от козлика…», как раздался требовательный мужской голос: «Ах вы, негодяи! Кто такие? Из какой школы?». Пение мгновенно прекратилось; мы кинулись врассыпную, мужчина – за нами. Запыхавшись, добежали до остановки и впрыгнули в отходивший уже троллейбус: мы были спасены. Но «Козлика» почему-то больше уже не пели.
Случай в умывальной комнате
Однажды мы с другом Витькой сбежали с урока. Побродив немного вокруг школы – а это было зимой – решили немного погреться, а заодно и попить воды в школьной умывалке – небольшой комнате, находящейся рядом с дверью, выходящей во двор. Здесь было тепло, но опасно – в любую минуту мог зайти кто-нибудь из учителей или (не дай Бог!) директор или завуч. Больше всего мы боялись нового завуча по имени Мефодий. Высокий, сухопарый, с густыми бровями, он был грозой школьных сорванцов и хулиганов.
– Послушай, Витя, – сказал я, – давай уйдем отсюда, а то еще Мефодий придет…
– А я уже здесь! – вдруг раздался вкрадчивый голос.
Мы обернулись и обмерли: в дверях стоял Мефодий собственной персоной. Ехидно улыбаясь, он с явным коварством наслаждался произведенным эффектом. Однако немая сцена продолжалась недолго. Не давая нам опомниться, Мефодий решительно сорвал с наших голов шапки и со словами «Марш за родителями!» скрылся в дверном проеме.
Мы не знали что делать. Неужели придется бежать за родителями? Выглянув в коридор, мы увидели, что наш обидчик, держа в каждой руке по шапке, скрылся в своем кабинете. Мы решили дождаться перемены. Вскоре раздался звонок и школа ожила. Смешавшись с другими учениками, мы робко приблизились к кабинету завуча. Дверь была открыта, кабинет пуст, а наши шапки спокойно лежали на сейфе. Смелый Витька, не долго думая, схватил шапки и был таков. С тревогой в сердце мы ждали возмездия, но оно не последовало: Мефодий, скорее всего, просто забыл.
Мог ли я тогда предположить, что спустя девять лет, когда я женюсь, грозный Мефодий станет моим тестем?
Детские шалости
Все дети шалят – шалили и мы. Шалости были разные: от самых невинных до довольно рискованных и даже опасных – о них и пойдет речь. Мы – это дети научных работников и преподавателей университета, живших вместе со своими родителями в те далекие послевоенные годы в переоборудованном под общежитие большом учебном корпусе, в котором была, как поется в известной песне Высоцкого, «на тридцать восемь комнаток всего одна уборная». Правда, комнат насчитывалось в два раза больше, а вот уборная, действительно, была одна, и находилась она во дворе, причем в дальнем его углу.
Детей, естественно, было много – разных возрастов, национальностей и социальной принадлежности. Однако жили дружно, и если существовало разделение, то только по возрастным группам. Самыми любимыми играми были казаки-разбойники, прятки, лапта, штандер, альчики (местная разновидность русских бабок). Кроме игр имелись и другие развлечения, например, запуск «ракеты». Производился он с помощью карбида и пустой консервной банки: в земле выкапывалась лунка, в нее наливалась вода, в которую бросали кусочек карбида, после чего лунка накрывалась жестяной банкой с отверстием в донышке. Снаружи банка быстро обмазывалась глиной, а отверстие зажималось пальцем. Через несколько секунд один из сорванцов, зажимавший отверстие, отскакивал в сторону, и в тот же момент кто-то другой подносил к банке горящую бумажку, предусмотрительно держа ее привязанной к концу хворостины. Горючая смесь взрывалась, и банка, словно ракета, стремительно улетала ввысь.
Страсть к всякого рода поджогам и взрывам была у нас неистребимой. Как-то один сорванец стащил у своего отца-охотника пару патронов и принес их в класс. Отопление тогда было печным: в каждом классе стояла печь, которую протапливали рано утром. Мы сидели на уроке и слушали объяснение учителя. Неожиданно в печи что-то громко бухнуло. Тут же раздался второй взрыв, один из кирпичей в печи отошел, в щель повалил дым. Запахло порохом, урок был сорван. Пришли директор с завучем – злоумышленник тут же был «вычислен». Им оказался сын корреспондента одной из столичных газет – страстного любителя охоты. Узнав о случившемся, отец поступил не совсем педагогично: выпорол сына ремнем. Рев сорванца был слышен даже в соседних домах. Однако наказание пошло на пользу: печки в школе больше не взрывались.
Но истории с взрывами на этом не прекратились: летом в нашем дворе взорвался бак в душе. Вы спросите, как можно взорвать бак с водой? Оказывается можно. Однажды кто-то из старших ребят притащил во двор клапан с авиационного двигателя. Клапан был изготовлен из дюралюминия, а внутри его, видимо для облегчения веса, находился натрий – металл, который при взаимодействии с водой начинает гореть. Вот эти-то свойства натрия и использовали наши сорванцы: они надпилили стержень клапана и бросили его в бак с водой. Вначале послышалось какое-то шипение, затем вода в баке забурлила, и вдруг раздался оглушительный взрыв. Бак лопнул, а вода из него хлынула вниз.
В это время в соседнем душе купался комендант дома – дядя Кирюша. Услышав взрыв, он в чем мать родила выскочил из душа, быстро оценил ситуацию и разразился громкими проклятиями в адрес дворовых мальчишек. Мы же, давясь от смеха, наблюдали за всем этим из-за кустов, а в наших головах уже созревали планы новых проказ.
Иван Романыч, кочегар
Иван Романыч трудился в котельной Педагогического института. Тогда теплоцентрали в городе не было, и каждое большое здание или группа зданий имели свою котельную. Если зимой в каком либо помещении института было холодно, то шли в котельную, и Иван Романыч тут же поддавал пару. Человек он был тихий, безобидный и работящий – со своими обязанностями кочегара справлялся хорошо. На вид ему было лет пятьдесят, а, может, и меньше, но из-за слоя угольной сажи, которая покрывала его морщинистое лицо, определить возраст было довольно сложно.
Иван Романыч постоянно находился в кочегарке и на улицу выходил редко. О себе он заявлял раз в месяц, в день получки, когда появлялась возможность выпить. Пил горькую он у себя в котельной – пил, как говорят, до упора, но всю зарплату не пропивал – большую часть все же относил домой. У кочегара была одна характерная особенность: напившись, он начинал произносить речи. Услышав на улице громовой голос Ивана Романыча, мы, мальчишки, тут же бросали свои игры и бежали вслед за ним. Сказать, что наш герой шел пьяной походкой, было бы неверно: Ивана Романыча буквально кидало из стороны в сторону. Порой, он накренялся так сильно, что, казалось, вот-вот рухнет на землю, но каким-то чудом он все же удерживался на ногах и шел дальше. При этом он не переставал выкрикивать слова, которые были слышны за два квартала. Речи Ивана Романыча представляли собой дикую смесь, состоящую из политических лозунгов, хроники текущих событий, бранных слов и т.д. Он клеймил немецко-фашистских захватчиков, лидеров буржуазных стран, врагов народа. Самое интересное, что ничего антисоветского в речах кочегара не было: он был патриотом. И, странное дело, милиция его не трогала: Иван Романыч благополучно добирался до дома, отдавал деньги своей «старухе» и ложился отсыпаться. Через день-другой он появлялся на работе и снова брался за лопату – тихий, незаметный, исполнительный.
Повзрослев, мы кое-что переняли у Ивана Романыча. Если случалось выпить, то идя по улице, громко произносили политические лозунги. Милиция, конечно же, оставляла нас в покое.
Стимулятор роста
Летом 1954 года я отдыхал в пионерском лагере, который находился неподалеку от города, в предгорьях. Мы часто ходили в походы, гуляли по окрестным холмам. Здесь росло множество растений, но одно из них привлекало особое внимание мальчишек. Это был молочай – травянистое растение, содержащее сок, по своему виду очень напоминавший молоко: если надломить стебель, то на месте надлома сразу же выступал белый сок. Позже я узнал, что сок многих видов молочая токсичен, но тогда мы об этом даже не подозревали, а ценили молочай совсем за иные качества. Мальчишки были твердо уверены, что если соком этого растения регулярно смазывать свою крайнюю плоть, то орган вырастит большим, что считалось очень престижным. Самое интересно, что такое желание возникало у детей 13-14 лет и даже младше. Прав, видимо, был старина Фрейд, придававший большое значение сексуальным инстинктам человека.
Однако не каждый из мальчишек рисковал опробовать молочай на себе. Кто-то пробовал, но осторожно, понемножку, и это не давало желаемого результата. Но вот нашелся подросток – худой, тщедушный, который так страстно хотел хоть чем-то отличаться от своих сверстников, что не побоялся эксперимента и использовал «целебные» качества молочая, как говорят, на всю катушку. Закончилось это сильным воспалением. Боль, по-видимому, была столь нестерпимой, что во время тихого часа мальчишка не выдержал и обратился за помощью к пионервожатой, которая вызвала врача.
Состоялся прелюбопытнейший диалог, свидетелями которого были все пионеры отряда:
– Зачем ты его намазал молочаем? – допытывалась бойкая пионервожатая, студентка пединститута.
– Чтобы был большим, – еле внятно пролепетал тринадцатилетний страдалец.
– А для чего тебе большой? – бесстыдно наседала пионервожатая.
Подросток затравленно молчал: ему было совестно, да и как объяснить взрослой женщине, для чего мальчишке нужен большой половой признак?
История с молочаем благополучно закончилась – были приняты надлежащие меры, и вскоре воспаление прошло, а бедный экспериментатор долго еще был предметом насмешек товарищей.
Из студенческого фольклора
Мой отец, профессор математики, обычно занимался со своими аспирантами на дому. Конечно, математика – наука интересная, но все время говорить о ней, наверное, утомительно. Поэтому мой родитель иногда давал своим питомцам – будущим Галуа и Ляпуновым – возможность как-то расслабиться, рассказывая им забавные истории, либо декламировал стихи. Дверь в его кабинет часто была полуприкрыта, благодаря чему я с большим интересом слушал эти «познавательные» истории, большинство которых, по-видимому, были почерпнуты им в годы своей студенческой молодости. Детская память хорошая, поэтому кое-что я запомнил на всю жизнь. Вот одно из стихотворений, которое часто любил цитировать отец:
Мне трудно вспомнить без улыбки
Те дни блаженства моего,
Когда все члены были гибки,
За исключеньем одного…
Но дни блаженства пролетели
И в завершении всего
Мои все члены отвердели,
За исключеньем одного…
Под звуки Шопена
У нас в школе был духовой оркестр, в котором играли старшеклассники. Я тогда учился в восьмом классе и немного играл на фортепиано, но труба привлекала меня больше, поэтому, когда был объявлен новый набор в оркестр, я тут же записался в него. Оркестром руководил Николай Афанасьевич Мухин (ребята в шутку провали его Пчелкиным) – учитель и пчеловод, который сам неплохо владел трубой – по крайней мере, нам тогда так казалось. Проведя проверку слуха, он отобрал лучших и приступил к занятиям, которые стали проводиться по вечерам, три раза в неделю. Мы увлеченно дули в трубы и кларнеты, постепенно осваивая несложные приемы игры на духовых инструментах. После репетиции мы шли гурьбой по темному бульвару, и наш тубист развлекался тем, что пугал сидевших на деревьях ворон. Услышав дикие звуки этого басовитого инструмента, вороны, как от выстрела, с шумом взлетали в воздух, обдавая нас брызгами своего помета.
Занятия продвигались успешно, и через три-четыре месяца мы уже сыграли свой первый марш «Вперед». Каждому из нас была вручена рукописная книжка, в которой содержался необходимый нотный материал: марши, танцы, популярные мелодии. Среди пьес был знаменитый «авиамарш» «Все выше и выше…», но в то время исполнять его не рекомендовалось, о чем свидетельствовала лаконичная надпись, сделанная рукой маэстро: «запрещен».
Кроме нашего школьного оркестра, Николай Афанасьевич руководил еще духовым оркестром министерства внутренних дел, и для усиления стал постепенно включать нас в состав этого коллектива. Играть с взрослыми музыкантами (они были всего не несколько лет старше нас) было для нас, мальчишек, большой честью. Кроме того, нам вскоре выдали воинскую форму – брюки с гимнастеркой, ремень и фуражку. Теперь мы уже ходили на репетиции в клуб МВД и имели специальные пропуска. Наконец, мы стали принимать участие в мероприятиях министерства – смотрах, парадах, танцевальных вечерах. Приходилось нам играть и на похоронах.
Никогда не забуду своего первого участия в таком мероприятии. Вместе с похоронной процессией мы прошли пешком через весь город на братское кладбище – а это примерно три-четыре километра. Сыграв траурный марш, мы какое-то время отдыхали, а потом снова брались за трубы. И все это происходило в жаркий летний день, под палящими лучами южного солнца. Наконец, все взмокшие и уставшие мы добрались до кладбища, где были деревья, и где можно было хоть немного отдохнуть. Пока шла траурная церемония – хоронили, кажется, майора милиции – мы сидели в тени, но вот наступил момент опускания гроба, и мы снова взялись за свои инструменты.
Зазвучала скорбная музыка марша Шопена. Неожиданно совсем рядом раздался чудовищный грохот, словно взорвалась бомба. От неожиданности я присел и чуть не выронил трубу из рук. Оказывается, это дал залп взвод автоматчиков, о чем я даже не подозревал, поскольку первый раз присутствовал на похоронах человека, которому воздавались воинские почести. Наверное, мой испуг выглядел очень комично (мы стояли кружком, и видели друг друга), поскольку музыкантами овладел совсем неуместный для такого места приступ смеха: они буквально сбились с ритма. Николай Афанасьевич, сверкая белками, бросал на нас угрожающие взгляды и продолжал играть на трубе. Постепенно звучание оркестра выровнялось, а ребята, чтобы не смеяться, старались играть, не глядя друг другу в глаза. К счастью, из-за выстрелов и плача, никто ничего не заметил. Мы благополучно доиграли марш и вскоре покинули это место скорби и печали, где смеяться не положено. В город нас отвезли на машине.
© Кузнецов А.Г., 2005. Все права защищены
Произведение публикуется с письменного разрешения автора
Количество просмотров: 3334 |


